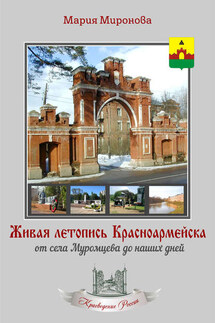Живая летопись Красноармейска: от села Муромцева до наших дней - страница 5
Село моего детства – Муромцево – выходило из двух улиц деревянных сельских домов. Место, на котором красовалось наше село, было гористое. Внизу, краем села несла свою родниковую водичку речка «Плакса».
Во всей местности вокруг села много было родников. От речки «Плаксы» остался ручеек, заросший ивняком, а путь его, то прекращается, то снова появляется. Изменился вид местности, поменяли своё направление и дороги.
Сама «Плакса» ушла в плотину, надобность которой была необходима предприятию. Вода в «Плаксе» была очень холодная и прозрачная, очень хорошо просматривалось дно ее с отшлифованными камешками. Нам, детям, было интересно глядеть в ее устье, где она впадала в речку Ворю, которая несла свои воды медленно, а Плакса быстрым ходом вносила себя в мутноватую Ворю. И в этом месте, когда мы приходили на Ворю купаться, то обязательно стояли в холодной воде Плаксы до тех пор, пока ноги замёрзнут, а затем греть ноги переходили в воду Вори, она была тёплая.
Дорога, по которой мы ходили к речке Воре, проходила у опушки леса – с одной стороны, а с другой стороны был зеленый луг, краем которого и бежала наша Плакса к Воре. Этот луг облюбовали кочевые цыгане. В то время, в 30-40-е годы прошлого века, можно было часто видеть табор кочевых цыган с детьми на повозках. Ну, а на лугу близ села им было раздолье: рядом вода ключевая и они разводили костры, готовили еду и…пели. Родители нам не разрешали ходить к цыганам, но мы все-таки бегали к ним иногда. А они, вроде бы для нас и пели, и плясали.
На занятия с детьми, на воспитание в нас хороших манер у наших родителей времени не было. А для нас был наглядным примером сельский труд наших родителей, которые работали от зари до зари. Поэтому сельские дети были послушными, воспитанными и дружными. И, как могли, помогали родителям. Лодырей и разбойников среди нас не было. А хорошим манерам нас учила жизнь.
В летнее время в селе все рано просыпались и взрослые и дети. Взрослые доили коров и сгоняли их в стадо.
Встретить вечером свою корову из стада входило в обязанность детей. В жаркие дни коров пригоняли домой и в полдень. Идет, бывало, наша Рыжуха уставшая, возбужденно машет хвостом, отбиваясь от слепней. А вечером, когда возвращалась из стада, подходила к дому не спеша и так горячо дышала, и сама она была горячая, что рядом с ней было тепло и пахло от нее чем-то таким особенным, что трудно передать, но запах тот, который приносила с собой корова из леса и лугов, я ощущаю до сих пор.