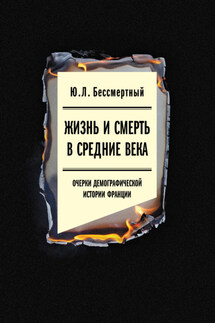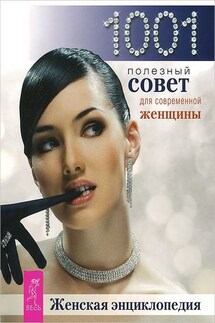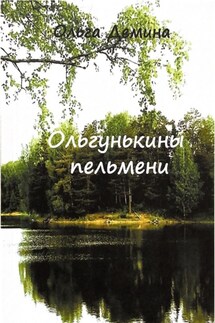Жизнь и смерть в Средние века. Очерки демографической истории Франции - страница 35
Кроме того, Д. Херлихи использует материалы Сен-Жерменского полиптика (начало IX в.), чтобы подтвердить, исходя из не слишком большой, с его точки зрения, разницы в нем числа вдов (133) и вдовцов (86), примерное равенство брачного возраста для мужчин и женщин (о самом этом возрасте полиптик ничего не сообщает). В полиптике же Марсельской церкви (начало IX в.) Д. Херлихи обращает внимание на возраст уже упоминавшихся выше «баккалариев», произвольно приравнивая его к 16 годам (большинство исследователей определяет его в 14–15 лет; И. С. Филиппов показал, что их возраст составлял 12 лет). Затем, постулируя, что баккаларии «не торопились» вступать в брак, американский исследователь несколько неожиданно заключает отсюда, что можно считать «неопровержимым» факт откладывания браков зависимыми людьми этого монастыря до конца третьего десятилетия своей жизни145. В общем попытку Д. Херлихи доказать преобладание в каролингское время поздних браков нельзя считать удачной146. Ее тем более придется отвергнуть, если будет принято во внимание сосуществование разных брачных моделей. Очевидно, что неофициальные браки в среде знати (так же, вероятно, как и среди простолюдинов) могли предшествовать официальным. Соответственно, брачный возраст и начало детородного периода еще более понижались.
Преобладание ранних супружеств создавало благоприятные предпосылки для высокого уровня брачности. О его примерной высоте у крестьян можно получить представление по каролингским полиптикам, позволяющим оценить долю холостых среди крестьян-держателей (табл. 2.2).
Как видно из таблицы (стб. 5), доля холостых мужчин везде стабильна – около пятой (или четвертой) части взрослых лиц мужского пола. Примерно та же картина вырисовывается и при массовом анализе актового материала VIII–Х вв.147
Таблица 2.2. Холостяки в церковных поместьях IX в.*
* Составлена по материалам кандидатской диссертации В. А. Блонина «Крестьянская семья во Франции IX в.», выполненной под нашим руководством (Горький, 1984), и по нашим собственным подсчетам.
** Расхождение с данными А. Арменго и его соавторов, оценивавших долю холостого населения во владениях Марсельской церкви в 32% (Reinhard M., Armengaud A., Dupaquier J. Histoire générale de la population mondiale. P., 1968. P. 65), объясняется тем, что в наших подсчетах не учтены «баккаларии», в число которых входили, как отмечалось выше, и подростки (начиная с 12 лет), не являвшиеся холостяками в собственном смысле слова.
Данные полиптиков и актов нуждаются, однако, в том уточнении, что в них учтены только официальные браки. Супружеские союзы иного типа благочестивые монахи – составители описей или грамот, – как правило, игнорировали. Есть и еще одно обстоятельство, позволяющее предполагать, что в действительности доля холостяков была меньшей, чем свидетельствуют поместные описи. Ведь в них фигурировали, как правило, только зависимые от данной сеньории. Мужчина, женатый на свободной женщине или на зависимой от другого вотчинника, мог выступать как холостяк (во всяком случае, если у него еще не появилось детей). Его жена в данной поместной описи упоминалась не обязательно148. Учитывая все это, можно полагать, что реальная доля холостяков среди мужчин не составляла и 20–25%. Что касается незамужних молодых женщин, то их доля – за счет более ранних браков – была еще скромнее.