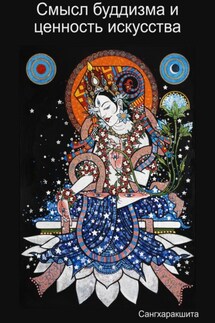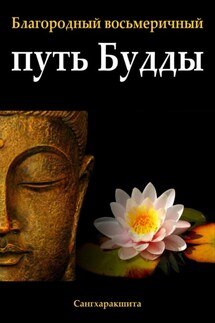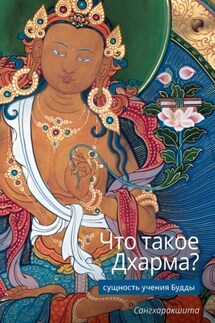Читать онлайн Сангхаракшита (Деннис Лингвуд) - Жизнь, исполненная доброты: учение Будды о метте
Предисловие
Когда не так давно Далай-Ламу спросили о том, во что он верит как буддист, он ответил: «Моя религия – доброта», – и немногие буддисты поспорят с этим кратким определением буддизма. Как же может эта довольно банальная человеческая характеристика быть основой религиозной веры?
Качество, которое он назвал добротой, на самом деле является центральным для всех форм буддизма, но большинство буддистов предпочитают использовать для него более точный и проникновенный традиционный термин – майтри (на санскрите) или метта (на пали). Что действительно отличает метту от того, что мы обычно считаем сутью человеческой доброты, так это то, что метта – это качество, взращиваемое с помощью практики медитации метта-бхаваны, развития универсальной любящей доброты. В качестве таковой метта потенциально безгранична в своих возможностях. Не существует предела, до которого в ней можно дойти.
В то же самое время, метта всегда коренится в этом основополагающем качестве обычной человеческой доброты. Просто выбраться за рамки поглощенности собой, пусть даже на мгновение, и обрести связь с жизнью вокруг нас – значит собрать основные ингредиенты, которые нужны нам для выполнения этой медитации. Развитие внутренней жизни может замкнуть нас в самих себе и даже вызвать отторжение без этой практики, и, как подчеркивает Сангхаракшита на последующих страницах, оно действенно, только если снова превращается в обычную человеческую доброту. Несомненно, сам Сангхаракшита обладает должными качествами, чтобы говорить о метте, как в теории, так и в практике. Всю свою жизнь он много читал, неустанно учился и глубоко размышлял. В то же самое время, несмотря на личную склонность жить в тихих размышлениях и обучении, он всегда работал на благо других, как в Индии, особенно во время движения массового обращения бывших неприкасаемых доктора Амбедкара в пятидесятые, так и на Западе, когда он основал Буддийскую Общину «Триратна». Всегда сложно ограничить буддиста тем, что напоминало бы убеждения. Сангхаракшита, к примеру, вероятно, не согласился бы с Далай-Ламой в нескольких вопросах. Однако он давно дал ясное изложение того, во что он верит, и оно свидетельствует, что очень во многом он следует тому же духовному побуждению, которое Далай-Лама однажды провозгласил ключевым принципом своей жизни, воплощенным в идее метты. В брошюре, опубликованной в 1986 году, Сангхаракшита пишет:
«Я верю, что человечество в своей сути едино. Я верю, что любое человеческое существо может подружиться с любым другим человеческим существом. Именно в это я искренне и глубоко верю. Эта вера – часть моего собственного опыта. Это часть моей собственной жизни. Это часть меня. Я не могу жить без этой веры, и я скорее умру, чем откажусь от нее. Для меня жить – значит воплощать на практике эту веру».
(Сангхаракшита, «Подлинное величие доктора Амбедкара», «Триратна Грантха Мала», Пуна, 1986).
Мы составили эту книгу большей частью из расшифровок семинара по «Карания метта сутте», классическому буддийскому тексту, посвященному метте, который Сангхаракшита провел в июле 1978 года в ретритном центре «Падмалока». Как это обычно бывает с книгами, составленными из лекций и семинаров Сангхаракшиты, мы сознательно сохранили свободное изложение Сангхаракшиты для того, чтобы ясно противопоставить его литературной завершенности его письменных работ. Читатель должен помнить, что, хотя Сангхаракшита все же проверяет и правит книги, публикуемые таким способом, результат совсем не похож на книгу, которую он мог бы написать по этому вопросу сам. Ключевые моменты неизбежно определяются участниками семинара и их особыми интересами. Столь же неизбежно и то, что изложение более хаотично, чем то, которого можно обычно ожидать от книги, написанной привычным способом.
Однако, вероятно, справедливо будет сказать, что самые смелые и радикальные учения Сангхаракшиты содержатся в его лекциях и семинарах. Несомненно, именно с помощью них он оказывал самое сильное влияние на жизни обычных людей, как в Индии, так и на Западе. И они всегда содержат дополнительный элемент – забавные истории, которые он черпает из своей яркой жизни или многочисленных прочтенных книг.
Есть много английских переводов «Карания метта сутты», доступных в наши дни, среди которых – поэтическое переложение самого Сангхаракшиты. Однако, когда проводился семинар, выбирать было особенно не из чего. Ф. Л. Вудворд написал и прозаическую версию, и версию, написанную белыми стихами, а также был опубликованный перевод Роберта Чалмерса. На этом семинаре использовался вариант Саддхатиссы. С подходом Вудворда его роднит то, что язык Саддхатиссы следует обычной традиции того времени относительно перевода буддийских текстов: он возвышен и архаичен в подборе слов и рифм и не умаляет простоты и ясности этой прекрасной сутты. Редакторы благодарны Видьядеви, Кхемавитре, Дхармашуре и Леа Морин за неоценимую помощь в приближении публикации этой книги.
Джинананда и Пабодхана,
июнь 2004 года.
Карания метта сутта
Тот, кто искусен в добродетели, кто желает достичь этого состояния покоя (Ниббаны), должен поступать так: он должен быть способным, прямым, совершенно прямым, обладать благородной речью, мягкостью и скромностью.
Он должен пребывать в довольстве и умеренности, обладать немногими обязанностями и жить должным образом, успокоить чувства, быть благоразумным, не поступать опрометчиво и не привязываться с жадностью к семействам.
Он не должен не допускать ни малейшего промаха, за который другие мудрецы могли бы порицать его. Да будут все существа счастливы и защищены, да будут их сердца целостны!
Какими бы ни были живые существа: слабыми или сильными, высокими, полными или средней полноты, низкими, мелкими или крупными, без исключения, видимыми или невидимыми, живущими далеко или близко, родились ли они или только должны родиться, да будут все существа счастливы!
Пусть никто не обманывает друг друга, не относится к другому существу с презрением, где бы и кем оно ни было. Пусть никто не делает другому вреда из злости или неприязни.
Подобно тому, как мать защищает единственное дитя, рискуя собственной жизнью, пусть человек развивает безграничность сердца ко всем существам.
Пусть его мысли о безграничной любви заполняют весь мир: сверху донизу и повсюду без каких бы то ни было преград, без ненависти и враждебности.
Стоит ли он, идет, сидит или лежит, пок он пробужден, он должен развивать это осознание. Это называют самой благородной жизнью.
Не впадая в ложные воззрения, будучи добродетельным и наделенным проникновением, сводя привязанности к чувственным желаниям, он никогда более не переродится.
Введение – cмысл метты
Величайший секрет этики – любовь или выход за пределы
нашей собственной природы, а также отождествление нас
самих с красотой, которая существует в мыслях, поступках
или людях, вне нас самих. Человек, чтобы быть по-
настоящему хорошим, должен обладать ярким и
всесторонним воображением; он должен ставить себя на
место другого или многих других; страдания и удовольствия
его рода должны стать его собственными.
(Шелли, «В защиту поэзии»).
Вопрос о счастье – или проблема несчастья – является фундаментальным для буддизма. Если бы мы могли быть уверены, что никогда не испытаем печали или разочарования, нам бы не понадобились учения Будды. Но, поскольку все обстоит иначе, нам нужно найти способ работать с нашим человеческим положением. Именно это стремился делать сам Будда, и ему это удалось. Преодолев эту проблему сам, он провел остальную часть жизни, объясняя другим природу его решения и способы его достижения.
Подход Будды – преодоление проблемы – находит выражение в одном из самых известных его учений, учении о Четырех благородных истинах, которое предлагает своего рода модель практики буддизма. Первая из этих истин довольно просто утверждает, что несчастье существует в качестве характеристики человеческого опыта. Это, вне всякого сомнения, утверждение, которое напрашивается само собой. Но вторая благородная истина, истина причины страдания, дает больше пищи для размышлений. Сущностная природа страдания, говорит Будда, – страстное желание, естественная, но болезненная жажда того, чтобы вещи были иными, нежели они являются. Если мы сможем избавиться от этого желания, если сможем принять взлеты и падения нашего опыта как таковые – не просто умом, а в глубине сердца, – проблема страдания будет решена. Конечно, это легко сказать, но трудно сделать. Но это можно сделать. Третья благородная истина – это истина Нирваны, истина о том, что можно достичь конца страданий, не путем вознесения в какое-то небесное состояние в другом пространстве или времени, но в этой жизни, с помощью собственных усилий по преображению личного опыта. Будда говорит, что каждое человеческое существо обладает способностью не просто стать счастливым – стать Просветленным. Образ самого Будды, человека по имени Сиддхартха, чей личный духовный путь прослеживается в текстах Палийского канона, – это исчерпывающий пример подобного самоопределения. Он воплотил высочайший потенциал, который можно активировать в человеческом уме, если сознательно обратить его к благу. Метод преображения очерчен в четвертой благородной истине, истине о благородной восьмеричном пути, каждый шаг на котором, весь путь к Просветлению, основан на истине обусловленности, принципа причинно-следственной связи, который лежит в основе каждого аспекта буддийского подхода к человеческому росту и развитию. Все меняется, как нам, к нашему сожалению, известно, но сам этот факт становится источником радости, когда мы понимаем, что сами обладаем властью изменить себя и свой опыт. Люди иногда предпочитают считать буддизм философией или даже системой рационального мышления, а не религией. В конце концов, буддизм не полагается на божественную помощь в обретении счастья, но вместо этого подчеркивает ценность преображения собственного опыта в свете ясного понимания природы изменения. В качестве такового, это в высшей мере систематическое учение. Но, если мы утратим осторожность, мы можем прийти к мысли, что Будда – некий ученый интеллектуал, преподносящий список терминов и определений: образ, который не отражает ни глубины его мудрости, которая далеко простирается за пределы слов и понятий, ни всеобъемлющей широты его сострадания. Есть некоторые формы буддизма, в которых укоренилась в некотором роде интеллектуальная идея буддизма, и, соответственно, уделяется мало внимания эмоциональному аспекту буддийской жизни. Можно прийти к представлению, что от нас ждут строгого контроля над эмоциями и сосредоточения на применении логики, если мы хотим обрести проникновение в природу реальности. Может даже возникнуть представление об идеальном буддисте как о человеке, который вышел за пределы любых эмоций, как будто все сильные эмоции бездуховны или даже безнравственны, и такие взгляды действительно удовлетворяют многих.
Но внимательное рассмотрение ранних текстов буддизма открывает иную картину. Во всех древних писаниях Палийского канона ясно указывается, что путь к Просветлению подразумевает развитие эмоций на каждом его этапе, чаще всего – в форме пяти