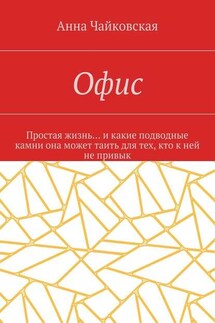Жизнь – сапожок непарный. Книга вторая. На фоне звёзд и страха - страница 6
– А вы, Алёша? – любопытствуя, спросила я присутствовавшего при этом разговоре Алексея.
– И я так же, – не раздумывая ответил он. – Ну, продвигался бы я на воле дальше по партийной линии и стал бы идиотом. Вот и всё.
Члены этой семьи, где в ходу были приправы из острот и лиризма, однако, горько сокрушались по поводу того, что лагерь изменил Миру до неузнаваемости.
– Ну, сами посудите! – с горечью и обидой рассказывала одна из сестёр. – Мира с Алексеем приехали сразу, как их освободили. Представляете, сколько собралось родственников, друзей? Поужинали. Ещё и расходиться было рано, как Мира вдруг во всеуслышанье обращается к Алексею и спрашивает: «Алёша, ты сходил в туалет? Покакал на ночь? Я устала, иду спать». Можете себе такое представить? Мира! Наша интеллигентная Мира! Ну что это за стиль?
Уязвивший сестёр «прокол» Миры можно и нужно было истолковать иначе. Могла же она, отсидев десять лет, тоже захотеть «дать по морде» беспечному, мало в чём изменившемуся за годы её отсутствия образу существования родственников? Слишком разного разлива и содержания жизнь досталась ей и её родным в одно и то же историческое время.
В доме у сестёр Миры, кстати, как и в доме Александры Фёдоровны, ни меня, ни приехавшую на несколько дней в Москву с Украины Хеллу не расспрашивали о нашем лагерном прошлом. Поначалу я такое целомудренное нелюбопытство отнесла к стародавней заповеди: «В доме повешенного не говорят о верёвке». Однако дело было не только в этом. Верёвка, накинутая одним концом на арестованного члена семьи, а другим – на полезного, привеченного властью родственника, при грамотной манипуляции вынуждала проявлять особую осторожность в общении. Для пятидесятых годов актуальнее расспросов и ответов был – молчок.
Однажды старший брат Миры – крупный физик, трижды лауреат Сталинских премий, совершенно очаровательный человек – спросил у нас с Хеллой:
– Неужели там только и было что холод и голод?
– Нет, конечно, – отозвались мы хором, – хватало и острословия, и шуток.
Для убедительности мы рассказали несколько курьёзов, пару анекдотов. Украсили это смехом. И пожалуй, то был единственный случай, когда из общения испарились насторожённость и напряжение. Наш собеседник восхищённо воскликнул:
– Да знаете ли вы, что на вас надо продавать билеты?
Я шепнула своей чешской подруге:
– А что? Кажется, мы легализовались в жанре буффонады. Пора шить колпаки…
Как же недостижимо далеки были наши родные от реального представления о лагерях, деформировавших не только «стиль», но и химический состав души!
Исстрадавшиеся от постоянного «врозь» в зоне, а затем и в ссылке, после освобождения Мира с Алексеем и часа не обходились друг без друга ни в работе, ни на отдыхе. Первым умер Алёша. Затем дочь Дина. Через много лет с приехавшей в Петербург Кирой Ефимовной Теверовской мы навестили Миру в Доме ветеранов сцены, где она нашла свой последний приют. У неё там была просторная, обставленная домашней мебелью комната. Я сидела у окна, выходившего в тенистый сад на Петровском острове, Кира – у постели Миры.
– Мне не нужно утро. Незачем просыпаться без Алёши, – вяло говорила Кире бывшая тараторка Мира. Она вроде бы и не болела. Просто взяла и ушла, раз умер её Алексей.
Жизнь каждого отдельного человека отстраивала своё мировоззрение, свою позицию. Осип Мандельштам оставил убийственно точный рецепт:



![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)