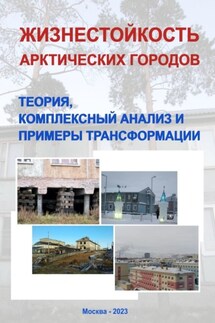Жизнестойкость арктических городов: теория, комплексный анализ и примеры трансформации. Коллективная монография - страница 5
При составлении разнообразных типологий арктических городов обычно опираются на отраслевые классификации: административные (Салехард, Анадырь, Нарьян-Мар), транспортно-логистические (Лабытнанги), производственные (Норильск) и др. Однако в условиях Арктики (и в целом, Крайнего Севера) возникает целый ряд особенностей функциональной роли городских и негородских поселений.
Первая важная особенность – это выполнение городами функции базы освоения. Здесь мы используем определение понятия базы освоения « (в широком, общеметодологическом смысле) как <…> пространственно-временную концентрацию освоенческих услуг», данное в конце 1970-х Сысоевым, представителем космачевской школы исследований пионерного освоения территории (Сысоев, 1979, с. 105).
Ключевой причиной развития таких функций, видимо, служит чувствительность инноваций к «трению пространства», из-за которого современная экономическая активность все больше концентрируется вокруг инновационных центров. Неслучайно многие статьи по географии инноваций начинаются со знаменитой цитаты о том, что «инновации проще преодолевают коридоры и улицы, чем материки и океаны» (Feldman, 1994, p. 2.).
Применительно к Арктике и Крайнему Северу это означает: не все инновации из центра применимы в местных условиях (например, в технической сфере, см. (Лукин, 1986)). Поэтому арктические города могут быть инновационны по необходимости, обеспечивая самих себя и окружающие территории необходимым знанием для осуществления и расширения хозяйственной деятельности. Это полностью согласуется с тезисом о стадии информационного освоения, предшествующего собственно хозяйственному (Космачев, 1974) и идее нового освоения территории как специфичном виде инновационного процесса (Пилясов, 2009). Потребность в информационном, «знаниевом» обеспечении собственно производственного процесса на Севере и в Арктике столь высока, что уже в середине XX века здесь сформировались городские центры, по сути, постиндустриальной специализации, парадоксальным образом опередившие время общей «тертиаризации» городской экономики (Замятина, 2020). Речь идет, в первую очередь, о геологических исследованиях и разработке новых технологий в строительстве (к примеру, в этом контексте Норильск стал безальтернативным центром разработки технологий строительства на вечной мерзлоте для всего Крайнего Севера).
Именно на пути производства инноваций арктические города парадоксальным образом оказываются способными расширить «сферу сбыта» своей продукции (в первую очередь, услуг и технологий), как минимум, на всю российскую (а потенциально и мировую) Арктику, или, иными словами, приобрести максимальный потенциал для укрепления базы экономического развития. Нужно признать, что и этот путь, к сожалению, уязвим. В 1990-е годы, в период ослабления государственного внимания к Арктике в целом даже наиболее инновационные, обладающие мощным потенциалом НИОКР, арктические города пережили тяжелый кризис, а порой и утратили свой научно-исследовательский потенциал. И все же именно в развитии специализированного научно-исследовательского потенциала можно найти одну из наиболее «долгосрочных» опор социально-экономического развития городских поселений, по сути, местный вариант функций города как «генератора инноваций».
При этом, как правило, производство освоенческих услуг сопряжено в арктических городах с выполнением иных функций (как в Норильске), поэтому говорить о наличии в Арктике городов с только «научными» функциями неверно. Однако значение освоенческих услуг сложно переоценить, учет их важен. При этом, вместо выделения по аналогии с внеарктическими городами «наукоградов», следует говорить о разделении городов «с выраженными функциями центра освоенческих услуг» и «без ярко выраженных функций центра освоенческих услуг».