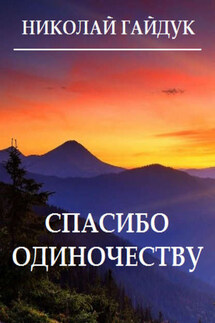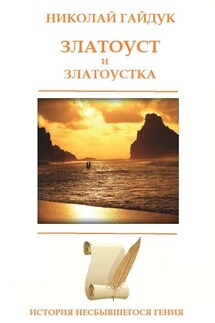Златоуст и Златоустка - страница 12
«Не спит, не спит громада Стольнограда! – размышлял Азбуковед Азбуковедыч. – И моя извечная бессонница не идёт ни в какое сравнение с бессонницей этого мегаполиса, который воочию видел и Наполеона, и Христа, и Антихриста. Ну, это я, конечно, маху дал, преувеличил… Христа этот город не видел, а вот Антихриста, кажется, скоро увидит. И страшно мне подумать, кто это такой – современный Антихрист. Неужели тот самый, кто хотел, мечтал быть Златоустом? Не могу поверить. Не хочу. Газеты пишут? Да мало ли там нынче всякого вздора. Не поверю, пока не увижу своими глазами. А если увижу – узнаю? Ведь он же так переродился – мать родная не сможет признать…»
Азбуковед Азбуковедыч постоял у оконца – узкого, глубокого. Посмотрел на огни полночного города. Оконце, обрамлённое железной крестовиной, похоже на бойницу крепости, и это обнадёживало старика. Если его попытаются взять – а это не исключено! – тесная каморка превратится в хорошую цитадель. Во-первых, у него есть карабин и патронов достаточно, а во вторых…
За окном что-то хрустнуло – точно ветка в полночном саду под ногой непрошеного гостя.
Испуганно пригнувшись, старик отошёл в дальний угол. Затаился, почти не дыша, крепко держа наизготовку золотой карабин, мерцающий во мраке. Но за стеною по-прежнему всё было тихо, дрёмно, только ветер в саду поскуливал.
Обитатель каморки, вздыхая, расслабился и нехотя отложил оружие.
Бумага в печи прогорела уже, и надо было снова затевать печальную работу. А так не хотелось…
В дальнем углу убогой дворницкой, отражая смутный свет уличного фонаря, мерцала широкая лопата, хорошо пригодная для снегоборьбы, поблёскивал пудовый лом, словно отлитый из серебра. При помощи своих «кошачьих глаз» превосходно ориентируясь впотьмах, старик ушёл куда-то в угол…
– В Санкт-Петербурге дворнику памятник поставили, – заворчал оттуда. – И в Гомеле поставили – дворничихе, бабе. А Старик-Черновик перебьётся, не гордый. А я, между прочим, уже не первые сто лет подметаю, дерьмо выгребаю за графоманами и даже за классиками…
Из тёмного угла старик вернулся, держа в объятьях целый сугроб какой-то удивительно светлой бумаги – странно сияла впотьмах.
– Дожился, докатился, колобок, – забормотал старик, склоняясь над бумажными развалами, упавшими возле печи. – Вот уж никогда бы не подумал, что придётся жечь, как сумасшедший сжигает свои миллионы…
Старик нисколько не преувеличивал. Каждая страница этой беременной рукописи, которая ни сегодня-завтра была готова разродиться романом, даже самая невзрачная страница – приди он сегодня в любое издательство – обернулась бы зелененькой стодолларовой бумажкой. А может, даже и не сто, а двести, триста долларов за каждую страницу отвалили бы – это как сторговаться. Но в том-то и дело, что деньги для него – пыль на дорогах истории. Вот почему теперь он так хладнокровно сжигает свои миллионы – от пыли решил отряхнуться. Только он уже устал «отряхиваться», честно говоря, – рука устала бросать в огонь листы, листы, листы, мелко испещрённые старательным каллиграфическим почерком, которым сегодня уже, наверно, никто не владеет.
Обладая уникальной способностью писать двумя руками сразу – и поэзию и прозу одновременно – покорный слуга намарал целые горы бумаги. Поначалу это была «История гения», а потом, год за годом, превратилась она в «Историю несбывшегося гения». Поначалу Оруженосец радовался, – ой, как много материалу наскирдовал, на пенсию выйдет, займётся обработкой. А теперь вот – впору заплакать. Жалко всё-таки сжигать, а надо. Причём надо-то сжигать тайком, по-партизански, соблюдая светомаскировку по ночам, когда кругом такая тишина, что даже бумага в печи, разгораясь, так трещит, будто гром за окнами. Хотя на самом деле – кладбищенский покой. И в каморке тихо, даже мышь не слышна. И за стеною глухо – Стольноград не спит, но и не бодрствует, он словно бы лежит с открытыми глазами, отдыхает.