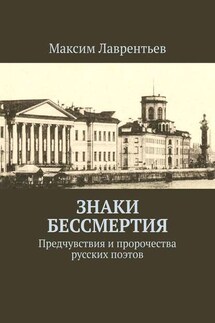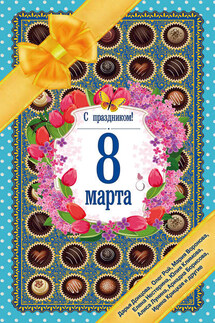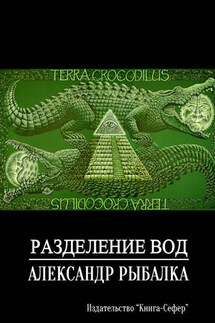Знаки бессмертия. Предчувствия и пророчества русских поэтов - страница 11
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Это не было самообманом: те из современников, кто имел возможность хоть сколько-нибудь внимательно всмотреться в загадочную личность, находили в поведении и даже в облике Лермонтова черты, свойственные людям его задачи и обыкновенно отталкивающие окружающих. К. А. Бороздин, в 1841 году 13-летний мальчик, восторгавшийся лермонтовскими стихами и мечтавший познакомиться с их автором, который заранее рисовался его незрелому, книжному воображению «чем-то идеально прекрасным, носящим на челе печать высокого своего призвания», так описывает первую (из двух) встречу с поэтом: «Огромная голова, широкий, но невысокий лоб, выдающие скулы, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком, угрястое и желтоватое, нос вздёрнутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики и волосы на голове, коротко остриженные. Но зато глаза!.. я таких глаз никогда после не видал. То были скорее длинные щели, а не глаза, и щели, полные злости и ума… Во всё время его разговора с хозяйкой с лица Лермонтова не сходила сардоническая улыбка, а речь его шла на ту же тему, что и у Чацкого, когда тот, разочарованный Москвою, бранил её беспощадно… Впечатление, произведённое на меня Лермонтовым, было жуткое. Помимо его безобразия, я видел в нём столько злости, что близко подойти к такому человеку мне казалось невозможным, я его струсил». Но в лермонтовской природе всегда чувствовалось что-то иное, что резко выделяло его из среды молодых русских дворян-мизантропов, среди которых он воспитывался и чьи старшие товарищи показали себя во всей красе в событиях 14 декабря 1825 года. Характерным образом, мемуарист тут же отмечает: «И не менее того, увидеть его снова мне ужасно захотелось».
Евдокии Растопчиной, наблюдавшей Лермонтова в ту пору, когда он был одних лет с Бороздиным, ещё на детских балах, тот запомнился «бедным ребёнком, загримированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием». В 1858 году, описывая его Александру Дюма, собиравшему сведения о главных русских литераторах, Растопчина окрестила лермонтовские стихи, до первой высылки на Кавказ, «ощупываниями», а принесшее ему первую славу стихотворение «Смерть поэта» (1837) даже назвала «посредственным». С одной стороны, в этом отзыве чувствуется профессиональную придирчивость, – Растопчина сама писала стихи, и довольно недурные (их ценил и Лермонтов); с другой же, далеко не всё из пресловутых «ощупываний» могло быть ей тогда известно. Интересно, что сказала бы мемуаристка о впервые опубликованном в Берлине, в 1862 году, лермонтовском «Предсказании»:
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! – твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его с возвышенным челом.
Стихотворение датировано 1830 годом, когда автору было всего 15 лет. Всё в нём, начиная с заглавия, проникнуто непоколебимой убеждённостью в реальности описываемых картин грядущего. Напрасно скептики, по-своему истолковывая помету, сделанную рукой Лермонтова на полях рукописи: «Это мечта», пытаются уверить нас, будто таким образом юный автор отрёкся от своего предсказания, посчитав его чем-то несерьёзным, какой-то детской игрой. Нам говорят, что у слова «мечта» в XIX столетии было и другое распространенное значение: «фантазия». Хочется задать закономерный вопрос, а разве у этого слова не существовало прямого значения, куда более распространённого, и что помешало Лермонтову написать «Это фантазия», если он и впрямь считал так?