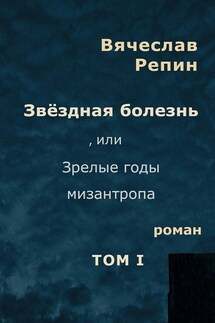Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Том 1 - страница 28
«Выхода нет, – добавил отец и твердо кивнул головой. – Кто первый найдет его – тот и выиграл…»
– Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе мятется всяк земнородный.., – бубнила невысокая молодая монахиня в черном облачении, стоявшая спиной ко входу.
Добравшись в Ля-Гард-Френэ около часу дня, Петр с Мартой вошли в дом, где их сразу проводили к гробу. Лица вокруг были незнакомые.
– Тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищии. Тем же Христе Боже, преставльшияся упокой, яко человеколюбец… Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь…
Поражала не только русская речь, не ее вечный и немного ускользающий от понимания смысл. Слух быстро проникался звучанием слов и уже через минуту не улавливал чужеродных нот, которые чем-то саднили в первую минуту. Поражала не атмосфера, царившая в доме, не осторожное и враждебное шарканье чьих-то ног, раздававшееся за спиной, а то, что кто-то чужой хозяйничает в комнате отца, ни на кого не обращая внимания, словно имел на эту комнату и на ее бывшего обитателя какие-то свои права, никому до сего дня не предъявленные.
Молодое, немного пресное лицо девушки-монахини выглядело очень русским. Как она сюда попала? Кто успел организовать всё за утро? Почему читают Псалтырь?.. Из-под края черного наряда монахини выглядывали носки светских дамских туфель, что придавало ее силуэту что-то непрофессиональное, случайное и в то же время трогательное, как казалось Петру. Опять праздные мысли! Аналогичное впечатление производил и приглушенный, казавшийся простуженным голос читавшей.
Гроб стоял в отцовской гостиной. Гробовое изножье, обложенное пальмовыми ветвями, тонуло в полумраке. Горько-сладкий кадящий запах, наполнявший комнату, чувствовался во всех комнатах и даже на улице перед входом в дом. Само «тело», возвышающееся над створками узкого гроба – гладкий лик с заостренным носом, впалые щеки, высокий, угловатый лоб, который лоснился больше чем вся безволосая голова, тело «приснопамятного раба Божия», – всё это не вязалось с привычным образом отца. Едва Петр думал о нем, и он видел отца живым. То, что представало глазам здесь, в комнате, казалось оболочкой, какой-то полой емкостью. Таинственный процесс отчуждения, происходивший под этой оболочкой, уже успел наложить на всё отпечаток, но еще не настолько, чтобы удавалось невооруженным глазом уловить превращения, происходившие в материи, и воспринимать их как наглядное подтверждение тому, что каждый смертный знает вроде бы отродясь. Жизнь не могла вместить в себя смерть. Петру казалось, что отца здесь попросту нет…
Утро выдалось ветреное. Ослепительное солнце заливало округу лиловой мутью. Мистраль гулял даже по кладбищу и рвал на собравшихся одежду. Женщинам приходилось придерживать юбки руками, отчего позы у всех были неестественные. И всё же что-то светлое мелькало из-под юбок при каждом новом порыве ветра.
Мать Петра, на пару с тетушкой Надеждой, и родители Мари Брэйзиер, пожилая чета из Тулона, сбились в стайку у могилы. Мать прилетела на похороны с «новым мужем» – так родственники продолжали звать здоровяка Корнелиуса, с которым она жила уже скоро двадцать лет. Чтобы не устроить своим появлением лишнего переполоха, на кладбище Корнелиус не пришел, предпочел переждать в гостинице, но эта чрезмерная тактичность всё же граничила с малодушием.