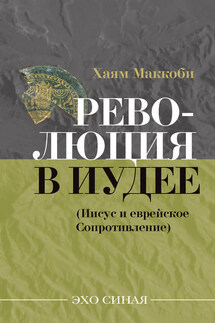Звездный бульвар - страница 27
Звездный бульвар
Эссе
На 3-й Останкинской улице мы ловили ужей
Ирина Евгеньевна Ракша́ – прозаик, кинодраматург, журналист. Лауреат многих литературных премий, как то: «Золотое перо России», им. И. Бунина, им. В. Шукшина, им. Есенина. Кавалер государственных наград, в том числе ордена Дружбы (2008 г.). Её авторству принадлежит множество рассказов, новелл, романов: «Весь белый свет», «Сибирские повести», «Останкинские дубки»… Три года назад вышел её роман «Окрасился месяц багрянцем» – о Надежде Плевицкой, знаменитой певице начала ХХ века и бабушке писательницы. А ещё Ирина Ракша – вдова выдающегося русского художника Юрия Ракши. Он известен и как художник-постановщик фильмов, вошедших в классику отечественного кино: «Время, вперёд!», «Остаются живыми», «Дерсу Узала», «Восхождение» и других, – и как автор таких живописных полотен, как «Моя мама», «Земляничная поляна», «Разговор о будущем», триптиха «Поле Куликово», ныне находящихся в Третьяковской галерее. Своими воспоминаниями писательница поделилась с «ЗБ».
На месте Звездного бульвара был глубокий овраг
Детство писательницы прошло в Останкине, где она и родилась. Её родители, агрономы, вчерашние выпускники ТСХА, были приглашены работать на вновь построенную сельхозвыставку. Папа – директором павильона «Хлопок», юная мама – экскурсоводом.
– В довоенные годы Останкино – это была глухая и по-дачному зелёная московская окраина, – рассказывает она. – Наши двухэтажные деревянные бараки стояли близь Шереметевского дворца и ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка), на берегу речки Горлинки, на 3-й Останкинской улице (ныне это проспект Королёва). Речка тогда уже сильно пересыхала. Но я проводила много счастливых часов на её песчаных, заросших осокой и камышом берегах. Была влюблена во всех её обитателей: синих стрекоз, головастиков, ручейников и лягушек. Порой ловила красавцев ужей с желтыми щечками на головке, с радостью приносила их домой – показать испуганной маме, но потом всегда возвращала в реку. Наблюдала, как они счастливые удирают, уплывают по мелкой прохладной воде, как прячутся в зарослях… Потом в моей прозе, в мемуарах и моему Останкину, и этим ужам тоже найдётся место.
После войны, которую отец-танкист прошел почти до Берлина, Ирина вернулась с мамой домой из эвакуации, с Урала, и поступила в женскую школу № 271. Мальчики и девочки в те годы учились раздельно.
– Рядом с моей школой тогда проходил очень глубокий длинный овраг, по дну его текла другая, узкая, как мутный ручей, речка Каменка. Но мы называли её Тухлянкой, поскольку туда из местных домов, похожих на деревенские избы, сваливали все нечистоты, – вспоминает писательница. – Через овраг была перекинута огромная чугунная труба, по которой дети с Маломосковских улиц ходили в мою же школу, переходя с берега на берег. Иногда на трубе возникали битвы портфелями: кто кому уступит дорогу, кто кого свалит в овраг…
Особенно часто мы дрались с «элитой» – детьми из новых кирпичных престижных многоэтажных домов, выросших возле типографии Гознака. (Ныне это проспект Мира.) Мы же считались «останкинской шпаной» – с Останкинских улиц и переулков, с Хованской, что возле ВСХВ, от парка и дворца Шереметева. Но ещё круче была шпана с Казанки (улица Казанская). В тех бараках жили разные до- и послевоенные бомжи и беженцы, а также местные воры и жулики. Но с «казанскими» мы, «останкинские», дружили. И школы наши были поблизости. У девочек одна, у мальчишек другая…