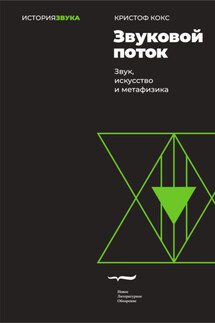Звуковой поток. Звук, искусство и метафизика - страница 13
Таким образом, Дионис и Аполлон не должны рассматриваться как гегелевские тезис и антитезис50. Также их не стоит сравнивать с кантовскими ноуменами и феноменами или вещью в себе и явлением. Конечно, в представлении своей пары дионисийского/аполлонического Ницше приспосабливает кантовскую терминологию. Но стоит обратить внимание на ремарку в предисловии к «Рождению трагедии» 1886 года – о том, что им проводилась попытка «выразить шопенгауэровскими и кантовскими формулами чуждые и новые оценки, которые по самой основе своей шли вразрез с духом Канта и Шопенгауэра, не менее чем с их вкусом»51. Трактовка дихотомии между явлением и вещью в себе у Ницше вытекает из шопенгауэровской – а значит, она дважды выводится из Канта. Как мы уже видели, сам Шопенгауэр использует эту дихотомию в исключительно не-кантовском ключе. Кантовское разделение проходит между природой и разумом, между тем, что может быть прожито в опыте, и тем, что можно постигнуть рациональной мыслью. Но для Шопенгауэра вещь в себе является прямым висцеральным опытом, а не частью (или областью) мысли или разума. Он пишет: «Это объясняется тем, что каждому вещь в себе известна непосредственно, поскольку она является его собственным телом, поскольку же она объективируется в других предметах созерцания, она известна каждому лишь опосредованно»52. Вместо кантовского разделения между опытом и мыслью Шопенгауэр отмечает различие между двумя типами опыта знания: опытом объекта и опытом субъекта, знанием о внешнем и знанием о внутреннем, экстенсивностью и интенсивностью. Конечной задачей для Канта является утверждение существования моральной и теологической областей, являющихся сверхприродными, отделенными от областей природы и опыта, – «ограничить знание, чтобы освободить место вере», как гласит его знаменитая фраза53. У Шопенгауэра нет таких моральных или теологических мотивов; вообще, он открыто издевается над кантовской этикой и теологией54.
Шопенгауэр делает шаг в сторону натурализации кантовского разделения между явлением и вещью в себе, но у него сохраняется проблематичная трансцендентальность, поскольку он принимает описание Кантом вещи в себе как внешнего пространства и времени. В подходе Ницше не остается ни следа от трансцендентального дуализма. Аполлоническое и дионисийское (которые в «Рождении трагедии» играют роли явления и вещи в себе соответственно) полностью имманентны природе. Аполлоническое и дионисийское – это, в первую очередь, силы природы – «художественные силы, прорывающиеся из самой природы, без посредства художника-человека, в коих художественные позывы получают ближайшим образом и прямым путем свое удовлетворение» (§2, ср. §§4, 5, 6 и 8)55. Только потом они становятся фигурами, описывающими артефакты человеческого – такие как музыка, скульптура и драма. Для Ницше природа – это и есть художник, который формирует индивидов и растворяет их, а искусство состоит в «подражании природе» не потому, что оно предлагает реалистичные репрезентации природных сущностей, а потому, что повторяет снова и снова эти «художественные позывы природы» (§2)