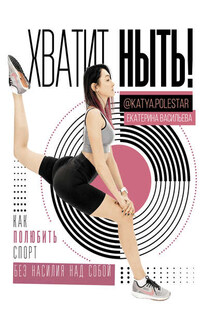Афганская война Сталина. Битва за Центральную Азию - страница 59
Кроме субъективных факторов, были, разумеется, и объективные причины возникновения вражды между руководителями памирской экспедиции. Перед контрразведчиком Т. Дьяковым стояла задача пресечения английского и афганского шпионажа на советской территории. Памир в то время представлял собой проходной двор для разных темных личностей, среди которых многие были платными агентами англичан.
Кроме этого, население этого района принадлежало к мусульманской секте исмаилитов. За многие века они выработали строгую систему конспирации как внутри своей общины, так и вне ее. Их тайные каналы связи охватывали всю Центральную Азию и уходили в Британскую Индию, где проживал глава секты принц Ага-хан. Такая ситуация вызывала серьезное беспокойство еще у представителей царской администрации в Туркестане, но за десятки лет перекрыть утечку золота и информации к Ага-хану они так и не смогли.
Имея в своем распоряжении лишь 30 сотрудников, Т. Дьяков попытался бороться с этой мощной исмаилитской организацией (!), да еще и с британской и афганской агентурой. Видимо, осознание своего бессилия породило в нем шпиономанию. Он стал подозревать в предательстве даже Э. Пумпура и Е. Петровского. Последнего Т. Дьяков через некоторое время все же необоснованно арестовал.
Представители Разведупра и НКИД попали под подозрение Т. Дьякова, так как, исходя из реальных условий, стали использовать для агентурной работы исмаилитские структуры. Так, Пумпур смог привлечь к сотрудничеству ишана Поршневского Юсуфа Али Шо, через людей которого установил связь со многими зарубежными населенными пунктами{6}.
Афганистан также пытался тайно использовать исмаилитов. Агенты эмира специально распускали слухи, что российский Памир скоро перейдет к Афганистану. В этих условиях исмаилитские ишаны, которых в XIX в. называли «иезуитами Востока», оправдали свою репутацию ловких и коварных людей: они интриговали со всеми противоборствующими силами на Памире, всегда имея в виду лишь свои интересы.
У Э. Пумпура и Е. Петровского хватило мудрости и сил, чтобы развернуть работу в архисложных условиях, а Т. Дьяков лишь мешал закордонной деятельности своих коллег. Через год он был переведен на другую должность в системе ВЧК...
Однако не только суровые природные условия и распри в командном составе затрудняли деятельность Памирского отряда. По прибытии в Хорог неожиданно выяснилось, что радиосвязь с командованием Туркестанского фронта установить невозможно, так как самодельный радиопередатчик оказался сломанным. В этих условиях регулярную связь с Ташкентом возможно было поддерживать лишь при содействии афганских властей через советское полпредство в Кабуле. На советской территории курьеры не могли прорваться через басмаческие заслоны...
В связи с этим командование Памирского отряда попыталось наладить нелегальную связь с Ф. Раскольниковым, но потерпело полное фиаско: тайный агент, посланный с донесением в Кабул, был схвачен афганскими властями. Через некоторое время Э. Пумпуру все же удалось переправить советскому послу в Афганистане донесение, в котором представитель НКИД на Памире просил Ф. Раскольникова добиться от Амануллы-хана разрешения на официальную связь между Хорогом и полпредством в Кабуле{7}. Согласие эмира на это было получено, и, таким образом, информационная блокада Памирского отряда была прорвана.
С использованием шифров и средств тайнописи секретные разведдонесения от Э. Пумпура порой доставлялись в Кабул... афганской почтой, что значительно экономило время и средства. Часть секретной информации из Хорога вскоре пошла по агентурному каналу в советское консульство в г. Мазари-и-Шариф. Очевидно, что эту нелегальную линию связи чаще всего использовала военная разведка, так как Северный Афганистан был в первую очередь в сфере влияния этой спецслужбы.