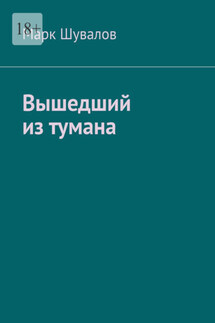Анамнезис-1. Роман - страница 44
Заботливость о Дане проявлялась у меня весьма странным образом. Ее слезы в разлуке являлись непорядком, я же не знал их причины. Да и вообще они относились к почти запрещенным и редко применяемым Даной приемам, правда, в иных случаях именно слезы говорили о получаемом ею наслаждении и переполнявших ее эмоциях. А капризная влага ее глаз в яростных спорах со мной довершала картину наших отношений. Слезы были просто необходимы в данном спектакле. Когда я уходил, глаза Даны поблескивали подозрительно влажно; и во мне боролись противоречивые чувства: хотелось ее утешить, но я осуждал то себя, то Дану, то проклинал свою прагматичность, то, напротив, гордился ею. Без этих, таких разных, слез, отношения наши обесценились бы, пропал бы самый вкус их. Они питали жизнь нашей связи, которую равнодушие Даны убило бы в зародыше. Все сплеталось из невидимых нитей, в каждом движении присутствовала особая логика, каждый миг имел тайный смысл. Оба мы знали это и не нарушали стройности конструкции, позволяя впечатлениям и слезам рождаться и таять. А итогом мучений, ссор и волнений являлся след в душе, очередной тончайший слой, из которого готовилось прорасти нечто совершенно необычное.
С утра я заехал за Гошей. Открыла мне мать. По глубоко коренившемуся желанию я сделал к ней движение, но что-то не менее упрямое меня остановило, и, уловив это, мать неловко отвернулась.
– Быстро умывайся! – рявкнул я на братца, взлохмаченного и сонного, – не слишком-то он спешил, в то время как мне из-за этого юного павиана пришлось отложить все дела.
– Почему ты не растолкала его раньше? – выговаривал я матери, и причиной моего раздражения была ее новая прическа, придававшая ей несколько непривычный вид. Волосы пышным контуром обрамляли ее голову, сходя на-нет на затылке; так же плавно менялась их окраска, сделанная искусным парикмахером: от золотистого к цвету граната и темного рубина на висках, напоминая однажды поразившую мое воображение орхидею. Блики в волосах матери притягивали мой взгляд и запутывали его в медно-золотых силках, однако сейчас она была совсем другой, нежели помнилась мне из детства.
– Как дела? – спросил я. Мать встрепенулась, но тут же отвела глаза, прикрывшись мытьем посуды:
– По-прежнему.
– Ты все еще с этим? – не сдержал я своей желчи. Она потупилась, помолчала и спросила:
– Папа тебе не звонил?
Жалость нестерпимо сжала мне сердце, чего я упрямо не желал показывать:
– Нет, я почти не бываю дома. Да и ты звонишь крайне редко.
Взгляд матери своим непостижимым медовым теплом неизменно обезоруживал меня:
– Ты же сам не разрешаешь…
Измены отцу с ее стороны представлялись мне нелепым спектаклем. Я понять не мог, как она оказалась в ситуации, чуждой ей по природе, – слишком искренняя, восторженная и не умеющая лгать. Я чувствовал с ней нерасторжимую связь, как ни открещивался от ее глупости, – она не могла осознанно совершить зло. Случилось нечто противоестественное, вопреки ее воле повлекшее данные обстоятельства. Какая-то невероятная слабость позволила кому-то воспользоваться ее чувствами. Но уверенность в этом не помешала мне отгородиться от нее непреодолимой преградой: находясь в одном помещении, мы как бы стояли по разные стороны пропасти. Мучимый болезненным сомнением, я злился и все же не впускал мать на свою территорию. Во мне происходила борьба из-за невозможности проникнуть в ее сегодняшние переживания и мысли.