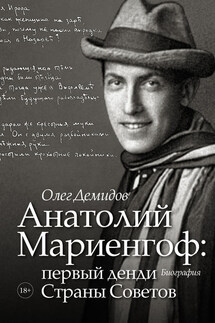Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов - страница 55
Если Мариенгоф на рубеже 1910–1920-х годов активно занимался публицистикой и его появление в этом объединении выглядит закономерным, то появление остальных товарищей по перу вызывает вопросы. Дело в том, что Союз советских журналистов был одним из первых прототипов Союза писателей. Но просуществовал он недолго и уже в мае следующего года был распущен. Позже, в 1919 году, практически тот же состав литераторов войдёт в соответствующую секцию литературного поезда им. Луначарского. В газетах сообщалось:
«Секция ставит своей задачей широкое ознакомление масс с литературой, литературными течениями и школами. В каждом городе, в котором будет останавливаться поезд, будут устраиваться митинги искусства, лекции, диспуты. В литературную секцию вошли: Гусев-Оренбургский, Рюрик Ивнев, Сергей Есенин, Григорий Колобов, Анатолий Мариенгоф, Петр Орешин, Вячеслав Полонский, Александр Серафимович, Борис Тимофеев, Георгий Устинов, Вадим Шершеневич».157
Это дало им возможность ездить и выступать по всей стране и, конечно, завоёвывать новую аудиторию.
«Известия Муромского совета рабочих и крестьянских депутатов» дают более конкретную информацию:
«Предстоящие лекции в литературном поезде им. А.В. Луначарского»: «“Митинги искусства” были распределены следующим образом: С. Есенин – “Тайна образов”, Р. Ивнев – “Революционное творчество”, Г. Колобов – “Преображение (искусство на улице)”, А. Мариенгоф – “Горящие языки”, В. Шершеневич – “В сумерках капиталистического города”, Г. Якулов – “Живопись под абажуром неба…”».158
Но в 1920 году такая близость к власти, видимо, оборвалась159. Серьёзные запреты будут, но позже. И потому имажинисты не побоялись обратиться к Луначарскому:
«Советские издания чуждаются нас, как зачумлённых, а самое слово “имажинизм” вызывает панику в рядах достопочтенной критики и ответственных работников. Мы лишены самого главного, может быть, единственного смысла нашего существования: возможности печатать свои стихи, а, следовательно, и писать их, ибо как нет театра для себя, так нет и поэзии для себя».
Далее авторы письма пишут о развёрнутой в стране травле имажинистов – «систематической и пристрастной», о том, что Госиздат препятствует изданию их книг, и предупреждают наркома просвещения:
«…при условии предоставления нам возможности печататься, выпускать собственные книги, без каких бы то ни было государственных субсидий, мы готовы работать и искать и будем это делать до тех пор, пока наш путь не станет путём общим, пока имажинизм, этот ренессанс искусства, не откроет ключом Марии дверь в новый золотой век искусства.
Но если мы действительно не только ненужный, но чуть ли не вредный элемент в искусстве, как это пишут тт. критики и работники, если наше искусство не только вредно, но даже опасно Советской республике, если нас необходимо лишать возможности печататься и говорить, то мы вынуждены просить Вас о выдаче нам разрешения на выезд из России, потому что мы желаем работать и работать так, как это велит наше искусство, не поступаясь ни одним лозунгом имажинизма, этого поэтического учения, которое для нас является единственно приемлемым».160
И далее следовали подписи Есенина, Шершеневича и Мариенгофа.
Луначарский отреагировал быстро и уже 10 марта 1920 года направляет письмо Вацлаву Воровскому, заведующему Госиздатом. Тот буквально через неделю отчитывается перед наркомом просвещения: