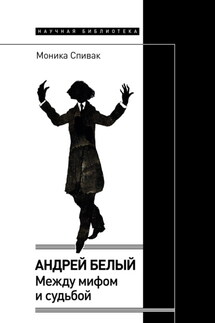Андрей Белый: между мифом и судьбой - страница 26
Кто мог это думать? <…>
Она!
Она – знала; она – не была; или – проще: от слова «была» оставалась одна половина; а именно: бы.
Сослагательное наклонение (Москва. С. 265–266).
То, что в сюжетной линии «Задопятов – Анна Павловна» в сниженном и трансформированном виде реализован сюжет аргонавтического мифа, представляется очевидным. Можно сказать, что Белый-романист дает прямые отсылки к поэтическим образам из сборника «Золото в лазури». Менее очевидной, но все же заслуживающей упоминания кажется корреляция между заключенной в темницу плоти, находящейся на грани жизни и смерти и похожей на труп животного Анны Павловны («<…> шаром вздуло ее, точно павшую лошадь; над нею жужулкали мухи») и – загадочной «Анны» из «Симфонии (2‐й, драматической)», совершенно бестелесной, бесплотной, уже перешедшей в иной, духовный мир героини. Впрочем, и героиней «симфоническую» Анну назвать трудно, она не действует, но трижды появляется на кладбище Новодевичьего монастыря (которое у Белого – место упокоения тел и грядущего Воскресения) в виде значимой могильной надписи – как лейтмотив, как тема в вариациях:
Роса пала на часовню серого камня, где были высечены слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя».
И снова:
Старинная часовня из серого камня вырисовывалась среди могил темным очертанием, и уже роса покрывала каменные слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя!»…
И наконец, последний раз:
Ветер шумел металлическими венками, да часы медленно отбивали время. <…>
Роса пала на часовню серого камня; там были высечены слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя!»138
Последний пассаж – ударный, им заканчивается «Симфония». При этом не раскрывается, чья эта окутанная атмосферой любви могила, остается лишь догадываться, кем были Анна и ее супруг в жизни. С некоторой долей риска, но все же, как кажется, можно предположить, что Белый, повествуя в романе «Москва» о старике-аргонавте Задопятове и его умирающей, но солнечной супруге Анне Павловне (для него – «Анны», «Аннушки»), помнил о загадочном финале своей «Симфонии», проникнутой духом аргонавтизма, и косвенно отсылал к нему читателя.
2. «СОЛНЕЧНЫЙ ГРАД» АНДРЕЯ БЕЛОГО
С КАМПАНЕЛЛОЙ И БЕЗ КАМПАНЕЛЛЫ
2.1. «У меня – лозунг свой»: между Верой Джонстон и Максимом Ковалевским
<…> так близко к нам Солнце, что, собственно говоря, мы на Солнце… <…> вот Солнечный град Кампанеллы спустился, вот мы – в граде Солнца! По слову мечтателя вступим мы в Солнечный Град. Его Царствию да не будет конца! —
так пафосно завершается эссе Андрея Белого «Утопия», опубликованное в 1921 году под псевдонимом Alter ego в журнале «Записки мечтателей»139. Это, пожалуй, самое выразительное и концептуальное высказывание Белого, связанное с именем Томмазо Кампанеллы (1568–1639), автора знаменитого утопического сочинения «Civitas solis» (1602; опубликовано в 1623 году).
В устных выступлениях, черновиках и печатных работах Белого имя Кампанеллы возникает только с 1918 года140. Вместе с тем образ Солнечного града без упоминания Кампанеллы появляется гораздо раньше, еще в 1900‐е, и проходит через все его творчество141.
Например, в симфонии «Кубок метелей» «белый снеговый челн» уплывает «в солнечный град вдоль снеговых волн»142. Москва эпохи аргонавтических чаяний, по позднейшему признанию писателя, видится ему «городом Солнца»