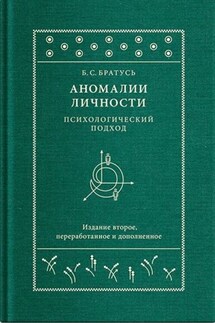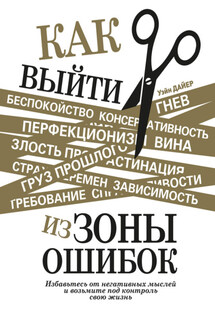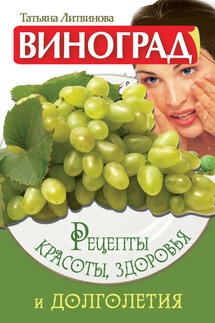Аномалии личности. Психологический подход - страница 37
Далее следует учесть, что мы исходили из принятой в данной работе логики рассуждений – найти признаки нормального развития и, лишь исходя из них, понять общую суть аномалий как собственно отклонений, отступлений от этого развития[82]. Речь, прежде всего, не о состояниях, а о тенденциях, характере устремлений, то есть не о месте пребывания, некой изолированной от других колонии, стоянке под вывеской «норма» (или «аномалия»), где все, кто туда прибыл и обитает, раз и навсегда стали «нормальными» (или – напротив – «аномальными»). Речь о движении, пути, полном преткновений, риска, возвратов, падений и сложностей, в котором главное – при всех возможных отклонениях – выбор направления и отстаивание, верность ему. Поэтому, в частности, важен не сам по себе перечень выделенных в предыдущем параграфе признаков, критериев, сущностных атрибутов развития человека (их можно дополнять или корректировать), а то – ухватывают ли, высвечивают ли они пунктир общего направления пути.
Надо оговорить также, что предложенные подходы были впервые опубликованы в первом – как русском, так и американском – издании этой книги (Братусь Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988; Bratus B. Anomalies of Personality. Paul M. Deutsch Press. Orlando, Florda, 1990) и с тех пор автор, наряду со знаками солидарности и согласия, удостаивался и критических замечаний. Наиболее часто повторяющимся было, пожалуй, следующее: исходные для нормального развития человека критерии (то есть те, что призваны соответствовать, отвечать понятию «человек») надо было сделать попроще, статистически вероятнее для большинства (дело иногда доходило даже до курьезов – личных обид некоторых оппонентов: что же, мы, выходит, не норма, а автор сам-то на себя пусть посмотрит – так ли уж он соответствует своим же выводам и т. п.)[83].
Что касается упреков в излишней завышенности, идеалистичности, отвлекающей от задач реальности и достижения земных успехов, то (как уже показывалось выше, в частности, при анализе веры) для достижения некоторого результата сложной жизненной деятельности совершенно недостаточно стремиться к нему как таковому, но стремление должно обязательно перехлестывать, превосходить этот результат, быть тем самым больше, выше («иллюзорнее», «идеалистичнее») его[84]. Отсюда известная завышенность («идеалистичность») – отнюдь не украшательство и блажь, не имеющие отношения к суровой правде жизни, но ориентир, указывающий (пеленгующий) главное направление в меняющихся и часто столь противоречивых обстоятельствах судьбы.
Здесь многое (по крайней мере, мне как автору, но, надеюсь, и уважаемому читателю) проясняет замечательный по простоте и силе образ соотнесения идеального устремления и реального результата, который дал Л. Н. Толстой при обсуждении картины Н. К. Рериха «Гонец». Он (видимо, не столько о самой картине, сколько в жизненное напутствие молодому тогда художнику) сказал: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо рулить всегда выше – жизнь все снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет»[85].
Представим сказанное в виде простой схемы:
Схема 1.1
Река бытия, жизни с ее сильно сносящим течением к низшему, субъект (А) и цель (В), которую он хочет достигнуть. Парадокс состоит, однако, в том, что добросовестно (без всякого там «идеализма») устремляясь к этой цели, он ее достигнуть, несмотря на все усилия, не сможет и окажется ниже (например, в точке D), подчас много ниже того, к чему стремился. Чтобы на самом деле достичь намеченного, он должен ставить куда более высокие, превосходящие цели (в данной схеме точку С).