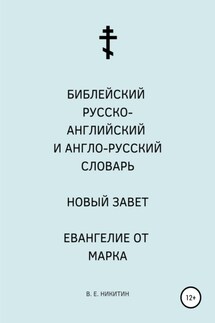Апостасия. Отступничество - страница 17
Нет, в церковь он больше не пойдет. А… что же? А как же он теперь будет жить?
И как это у брата Петра все так легко получается и совмещается – и революция, и университет, и любовь к Наденьке, и посещение этих… ужасных заведений?
И он снова стал мучительно перебирать в памяти свой позор.
– Как тебя зовут, маленький? – спросила его та… как ее назвать… – девка? – когда его, ни жива ни мертва, затащили в комнату, где стояли одна большая кровать да маленький столик и пара стульев.
– Ну чего дичишься? Дичок. Братец твой шепнул: впервой ты. Правда, что ли? Дак это ничего, что впервой. Небось понравится. Сам будешь апосля к нам ходить. Как твой братец. Ну иди, поласкаю я тебя, маленького. Как маменька тебя ласкала. – И она стала расстегивать кофточку на груди.
Павел как сел на стул, так и приклеился намертво, не отодрать. И голос пропал. И хотел бы что сказать – язык не шевелится. С ужасом смотрел он на вывалившиеся большие груди рассевшейся на кровати как ни в чем не бывало здоровенной крестьянской девки, безо всякого стеснения задравшей ногу на постель и стягивавшей теперь чулок.
– Тебя Павлом зовут, знаю. А меня Настеной. Ну иди ко мне, дичок. Дичок – молодой бычок. – Она засмеялась. – Не бойся, чай, не съем я тебя. – Она уже улеглась на кровать, совсем голая, чуть прикрыв это место одеялом.
Как загипнотизированный смотрел Павел на покойно раскинувшееся, пышное, как взбитое масло, тело Настены, на ее толстые ляжки, большой белый живот, округлые груди с маленькими розовыми сосками – и не мог сдвинуться с места.
– Ну иди, что ль, поближе, поговорим… – лениво проговорила Настена. – Вот глупый. Деньги заплатил и сидишь. Мне – что? – Она сладко, во весь рот зевнула, прикрыла ладонью глаза и вдруг захрапела.
Павел вздрогнул. Настена заснула так внезапно и так, по-видимому, всерьез, что он, и без того сидевший статуей, совсем перестал дышать, боясь спугнуть ее сон, боясь, что она так же неожиданно проснется и опять начнется пытка блудным искушением.
Через час Настена заворочалась, стала натягивать (должно быть, замерзла) одеяло, протерла глаза. Увидев все так же безмолвно сидевшего на стуле Павла, она охнула и, привстав на постели, испуганно воскликнула:
– Ой матушки мои! Да что ж ты все так сиротинушкой и сидишь, миленький! – Она проворно вскочила с кровати и, бросившись к Павлу, затормошила. – Давай, миленький, скорей! Что ж ты… У меня ты, чай, не один…
Но Павел – откуда только прыть взялась! – взвился как ужаленный и, оттолкнув Настену, опрометью бросился вон.
Всю оставшуюся ночь он проходил по чужому, замерзшему, вымершему ночному городу, не разбирая улиц, шел и шел, куда вели глаза и ноги. Молчаливо и мрачно нависали над ним громады домов, и они казались такими же вымершими и пустыми, как улицы. Нигде ни огонька, ни свечечки в окнах. Жутко. А мороз пробирается под новенькую гимназическую шинель, горят уши, горят щеки, пальцы на руках и ногах немеют и болят от холода. Да ведь так можно и окоченеть! Побежал. Короткими перебежками с передышками добежал до показавшегося ему знакомым вокзала. Да это же тот самый, Николаевский, на который он сегодня утром… неужели сегодня? нет, уже вчера… приехал из Киева.
Здесь же, у вокзала, бросился к дремавшему в санях извозчику, сказал адрес. Через десять минут сонный дворник уже отворял ему ворота. Медленно поднялся Павел на шестой этаж, долго звонил и стучал в квартиру брата. Наконец Петр услышал и открыл дверь.