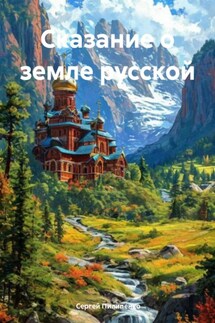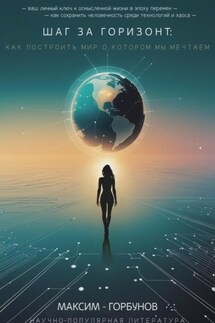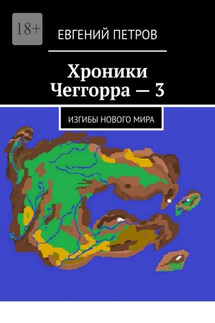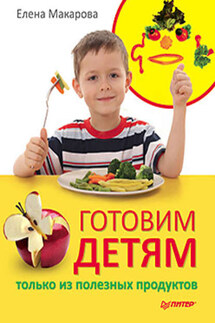Аральский тупик - страница 18
Виктор Григорьевич Казаков, консультант СП СССР по публицистике, писавший об экологических бедах Молдавии, об опустынивании Чёрных земель калмыков, о тяжёлой ситуации в Волго-Каспийском бассейне, пришел к следующему выводу:
– Дело не в субъективных чьих-то просчетах. Дело в том, что в нашей самой экономической системе отсутствует пока природоохранный механизм. Следует чётко в нашем уголовном кодексе определить понятие ещё одного преступления – экологического, и спрашивать за него как за хищение в особо крупных размерах. А возможно это, в свою очередь, при наличии правдивой и честной статистики, которой у нас пока нет.
В. И. Олейник
Еще более конкретен и точен Владимир Иванович Олейник, заместитель начальника следственной части прокуратуры РСФСР, побывавший в регионе в составе экспедиции «Арал-88» (и не понаслышке знакомый с «делами» узбекской хлопковой мафии).
– Вы посмотрите уголовно-правовое и гражданское законодательства, которые в случае гибели рыбы в водоёме, животных – предусматривают довольно суровое наказание виновных. Но ни в одном законе не говорится: загрязнение окружающей или водной среды пестицидами, другими ядохимикатами, повлекшее тяжкие последствия для человека или его смерть, наказываются таким-то и таким-то образом. Нет этого! Статья, предусматривающая такого рода деяния, должна быть обязательно.
– Надо в школе и на производстве поднять роль экологического воспитания и образования, – считает кандидат биологических наук Абдукадыр Эргашев, член республиканской (УзССР) комиссии ЮНЕСКО по программе «Человек и биосфера». – Присутствовали ли на совещаниях по Аралу представители общества охраны природы? Нет, и оно понятно – ведь в аппарате общества мы не обнаружили ни биолога, ни географа… А когда у нас в стране руководство промышленными предприятиями консультировалось перед вводом предприятия в строй с геологами, биологами, экологами? Никогда и нигде. Выходит, пришло время ещё раз доказывать актуальность пословицы «не плюй в колодец, пригодится воды напиться»?
Высказывались – да и продолжают высказываться – мнения о влиянии природных факторов на осушение Арала. Дескать, отрицательные природные факторы вообще косяком пошли, да как на грех – последние годы исключительно маловодные. Вот год 1988 был полноводным – и море отступило не на 80 сантиметров, как обычно, а всего на 20. Поскольку ещё в школе мы привыкли к тому, что условия для ведения сельского хозяйства в нашей стране исключительно неблагоприятные, и только ценой невероятных усилий, то есть невзирая на погодные условия, мы можем хоть что-то вырастить[8], многих такой взгляд на проблему Арала устраивал и устраивает по сию пору. Тем более что сразу можно вспомнить: раньше, до «исторического материализма», погодные условия были не в пример лучше, вот Арал и не высыхал. А то, что были лучше, тоже известно: до 1914 года Россия хлеб (да и не один хлеб) продавала, а теперь, вишь, покупает (да и не один хлеб; в 1987 году, например, объем импорта продовольствия составил 17,7 миллиарда инвалютных рублей).
С погодными условиями, с маловодьем этим даже пытались бороться (исполняя хором под руководством Большого Партийного Начальника любимую песню: «Будет людям счастье, счастье на века – у советской власти сила велика!»): бывший первый секретарь Кашкадарьинского обкома партии Гаипов посылал самолеты на «штурм» ледников – их опыляли угольной пылью. Человек большого государственного ума, бывший первый секретарь первым (и, к счастью, последним) понял: такая дорогая, но нехитрая операция вызовет более активное таяние снегов, питающих реки, – и проблема орошения решена! Не успел, видно, бывший первый секретарь почитать до принятия такого решения басен дедушки Крылова.