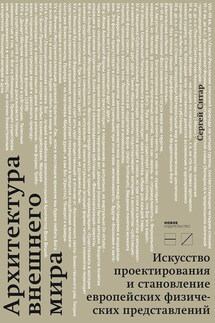Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений - страница 28
Инновационный момент, обращающий на себя внимание в высказывании Амвросия, состоит в том, что сравнение с конструирующим производством используется им уже не столько для истолкования происхождения природных вещей, сколько для характеристики человеческого познания – ведь «паутина», которую «плетут» физики-атомисты, есть не что иное, как дискурсивное представление, учение или знаниевая модель. Сравнение познания, не достигающего сущности познаваемого предмета, с раз личными видами ремесел уже проводилось в античности – в частности, в платоновском диалоге «Софист»[65], – однако строительное искусство до сих пор едва ли могло фигурировать среди таких ремесел, поскольку главной отличительной чертой «неполноценного» познания полагался, говоря современным языком, именно недостаток конструктивности и фундаментальности. Что же касается познания, достойного называться научным, то оно, независимо от конкретного предмета, традиционно мыслилось стремящимся к единой общезначимой цели, пусть даже эта цель обозначалась у разных философов по-разному – как эйдос, идея, форма, логос, ουσια, ratio. В кратком отказе Амвросия от полемики с атомистами (через сравнение их с пауками) звучит признание наличия в их деятельности не только некоей рациональности sui generis, но также и своеобразной конструктивности. С другой стороны – в отличие от Платона, который считает своим долгом подробно рассмотреть и опровергнуть учения современных ему софистов, – Амвросий демонстративно отстраняется от полемического диалога с натурфилософами – ведь странно было бы человеку дискутировать с пауками.
Но в результате возникает трещина внутри европейской познавательной традиции: от этого отчасти смиренного, а отчасти ироничного «умывания рук» открывается прямая дорога к аверроистскому учению о «двойственной истине» и далее к кульминационному эпизоду в истории средневековой схоластики – полемике между «реалистами» и «номиналистами» по поводу онтологического статуса универсалий (общих понятий).
Ил. 4
Христос Пантократор, творящий мир с помощью циркуля, инструмента архитектора – распространенный сюжет европейских иллюстрированных Библий XIII века. Сцена cотворения мира из Библии св. Людовика, собрание кафедрального собора Толедо (слева), и из французской Морализованной Библии (Bible Moralisée), собрание Австрийской национальной библиотеки, Вена (справа).
Номинализм, с одной стороны, возобновляет аристотелевскую критику платоновых гипостазированных идей, с другой – сопротивляется также и аристотелевскому отождествлению формы вещи с ее бытием, переключая внимание на связь формы с человеческим представлением и языком. С этого момента возникает два параллельных мира – наряду с античным и раннехристианским горизонтом вещей, определяемых идеями Творца, выделяется горизонт сугубо человеческих, «эмпирических» наблюдений и обобщений: на смену божественному смыслу (логосу, ratio), нисходящему в вещи свыше, приходят «понятия» и «термины» (conceptum, terminus), под которыми подразумеваются смыслы, сформированные в человеческом уме на основе чувственных впечатлений[66]. Показательно, что и этот эпистемологический сдвиг не обходится без привлечения архитектурно-строительной аналогии. Вот, к примеру, какую трактовку понятия «универсалии» предлагает Уильям Оккам (напомним, что к сфере «субъектного» [субъективного] он относит чувственно воспринимаемое бытие, а к сфере «объектного» [объективного] – умопостигаемое):