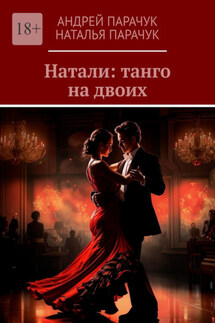Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения - страница 17
Александра Экстер. Эскизы костюмов к спектаклю «Саломея», 1917 г.
Источник: Театральный музей имени А. А. Бахрушина
Остальные 11 участников выставки – Бурлюк, Маяковский, Каменский, их новые финские и немецкие друзья[124] – тоже «занимались своими делами». На углу Настасьинского переулка, в помещении бывшей прачечной, они открыли коммерческое «Кафе поэтов», в которое также вложился Николай Филиппов[125], анархистствующий булочник-поэт, упомянутый выше.
Гвоздем поэтических вечеров в этом кафе был «футурист жизни» Владимир Гольцшмидт. Он приехал из Перми вслед за земляком Василием Каменским, «петрушкой» и «атаманом» русского футуризма. Гольцшмидт умел ломать толстые доски своей головой.
Еще в дни Февральской революции «гилейцы» радикализовали идеи «народного искусства» – лубка, эпоса, частушки, балагана и цирка[126]. Они называли всё это «заборной живописью и литературой» и успешно вовлекали в свои коммерческие брутальные представления ротозеев. К выставке «Бубнового валета» в этот раз было приурочено похожее представление: «29 ноября 1917. „Заборная живопись и литература“. Доклады, спор, стихи. Выставка „Бубновый валет“. Сегодня от 2 до 5. Малевич, Бурлюк, Каменский и публика». К представлению была выпущена газета с фирменным бурлюковским ослом.
Одна из афиш «Кафе поэтов», 1918 г.
Источник: ГМИРЛИ
Самым неожиданным в последней выставке «Бубнового валета» было участие в ней представителя политического истеблишмента – Александра Барышникова, депутата IV Думы, члена ЦК Российской радикально-демократической партии.
Когда-то Барышников был архитектором[127], вращался в театральных кругах[128], участвовал в выставке Михаила Ларионова как художник[129]. Но с началом Первой мировой войны ушел в гражданский активизм и политику. Депутаты Госдумы в художественных выставках до этого, кажется, еще не участвовали.
Депутаты 4-й Государственной думы: Лев Александрович Велихов (1875 – после 1940), Михаил Дмитриевич Калугин (1882–1924), Александр Александрович Барышников (1877–1924).
Источник: ЦГАКФФД СПб
В 1915 г. Барышников стоял у истоков Всероссийского союза городов, который обеспечивал быт войны – лазареты, продовольствие, санитарные поезда, помощь беженцам, даже эвакуацию промышленных предприятий[130]. Союз городов казался прецедентом самозарождения российского гражданского общества, он включал в себя десятки горизонтальных муниципальных структур и самоуправлялся коллегиально. Правда, с годами начальство Союза городов становилось заметно холеней, а сам он все больше разрастался[131]. В конце концов раздутый штат организации составлял более 30 тысяч человек. Среди них в 1917 г. были и некоторые из наших героев. Немного успела поработать на мелких должностях, «ради дров и крупы», художница Ольга Розанова[132]. О работе Владимира Бармаша на очень неплохой должности в Союзе городов упоминает Ветлугин[133].
Партию же (Российскую радикально-демократическую, РРДП), членом ЦК которой был Барышников, еще в 1905 г. задумал Максим Горький (а создали ее Д.Н. Рузский и М.В. Бернацкий). Электоратом РРДП были «низы буржуазии, непосредственно соприкасающиеся с пролетариатом»[134]: мелкие лавочники, ремесленники, зубные врачи, швеи на дому, репетиторы, тренеры, маргинальные художники, писатели и прочие «самоэксплуататоры», чей статус был уязвим и неустойчив. Эту толщу городских обывателей не устраивали ни кадеты, ни социалисты с их таинственными междусобойчиками и миссионерскими замашками. После июльского кризиса Барышникову досталось Министерство государственного призрения, и он широко раздавал имущество министерства общественным организациям – например, отдал Смольный Петросовету.
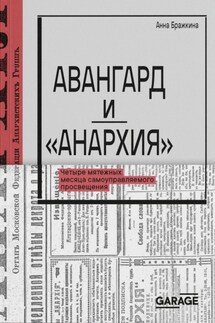

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)