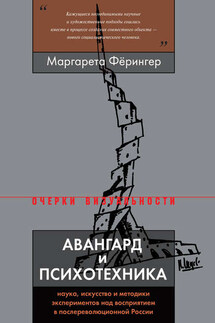Авангард и психотехника - страница 2
Спустя совсем незначительное время художники будут присутствовать практически во всех научных институтах или управляющих органах разного рода организаций, для того чтобы не просто создавать те стимулы для пробуждения радости от работы, о необходимости которых говорил Богданов, но и для того, чтобы его сначала отыскать. В обращении к субъекту началась кооперация художников-авангардистов и ученых-авангардистов: «Рядом с человеком науки работник искусства должен стать психо-инженером, психо-конструктором»[24].
Историография, архивный материал
Вряд ли кто-то более выразительно смог бы обозначить взаимопроникновение искусства и науки, чем это сделал Борис Эйхенбаум, известный представитель русского формализма, о поздней фазе развития которого в послереволюционные 1920‐е годы он напишет: «Наша эпоха, по исторической своей природе, синтетична – хотя бы в том смысле, что она ставит заново все вопросы человеческого бытия и общежития. Является тяга к сочетанию и сближению разных методов мышления и разных речевых средств для понимания одних и тех же фактов жизни. Наука и искусство оказываются при этом не столько разными (и несоединимыми) типами мышления, сколько разными языковыми строями, разными системами речи и выражения»[25]. Эта тяга к сближению искусства и науки проявилась у формалистов в том, что они занимались не только литературой, но и театром, фотографией и кинематографом, а также в создании специфических для разных медиа «методов мышления». Только не обещает ли формальное провозглашение взаимопроникновения различных «типов мышления» нечто большее, чем сопоставимость «языкового строя и системы речи»?
Художники 1920‐х годов понимали новое коммунистическое общество как квазихудожественный эксперимент, в котором, следуя формалистскому идеалу, они использовали «искусство как прием»[26], позволяющий увидеть прежде невидимое, – использовали для того, чтобы при помощи художественного остранения освободить автоматизированное восприятие угнетенного рабочего и превратить его в «просвещенного пролетария». Менее известно, что подспорьем в этой экспериментализации служили искусствам те науки о жизни, которые с начала 1920‐х годов активно развивались в России, – психология, физиология, психофизика, а в 1920‐е годы – в первую очередь психотехника. Несмотря на то что в 1920‐е годы понятие «науки о жизни» еще не появилось, его удобно использовать как общее название для всех наук, занимающихся изучением человека и для этой цели экспериментирующих с живыми существами. К тому же все эти науки в изучаемом контексте были сильно переплетены друг с другом в своем развитии за счет обмена практиками. Но главное, что было у них в СССР общим, – это то, что все они с уникальной последовательностью ориентировались на единую цель: создание для нового – преобразованного революцией – человека столь же нового и адекватного ему жизненного пространства. В области искусства это означало, прежде всего, создание новых типовых условий визуального восприятия.