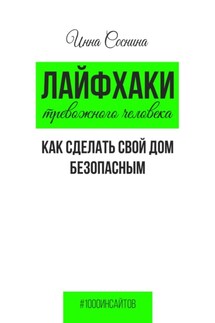Баллада о Топорове. Стихотворения, воспоминания, статьи - страница 18
Игрунов Н. С., Москва. Wikimedia Commons. Автор фотографии в источнике не указан
Существует такая притча:
Сократа, идущего с учеником, встречает проститутка. «Вот ты, – обращается к нему, – потратил годы, чтобы он пошел за тобою, а мне стоит только поманить его, и он пойдет за мной». – «Что же тут удивительного? – сказал мудрец. – Ты зовешь его вниз, а я – вверх».
Топоров знал, что делал: он звал народ вверх! И в этом всем нам наука.
После обеда в крикливом ряду я покупал сыну поджаренных семечек, и мы отправлялись в редакцию газеты «Красный Алтай»28, где я работал в январе 1925 года. Там был старый, наполовину протертый диван. На нем, я знал, спал по ночам Илья Мухачев, когда привозил стихи для «Красного Алтая». Я усаживал сына с семечками на этот диван, а сам разговаривал с друзьями-журналистами, всегда осведомленными о новостях.
И там я не раз встречался с редчайшим человеком, имя которого со временем станет известно всем книголюбам. То был самый активный селькор, приезжавший из коммуны «Майское утро», тридцатипятилетний на редкость общительный и увлеченный просветитель Адриан Митрофанович Топоров. Я знал его по заметкам, зарисовкам и статьям в газете, а также по рассказу, напечатанному в журнале «Алтайская деревня». Этот непоседливый учитель уже несколько лет по вечерам и в праздники читал коммунарам художественную литературу. Об этом подвиге учителя я уже писал в книге «Минувшее и близкое». Сейчас приведу некоторые дополнения и уточнения.
Топоров не просто читал коммунарам художественную литературу, а со стенографической точностью записывал их суждения о прочитанном. Вспомним: не было телевидения, еще молчало радио, еще не заезжали в глубинку актеры. В зимнюю пору деревня погружалась в темноту. Сельчанам редко удавалось раздобыть керосин. Чаще всего избы освещались сальными свечами и даже дымной лучиной. И вот в это-то нелегкое время вечера выразительного чтения учителя были единственным, глубоко полезным удовольствием: перед неграмотными людьми открывался большой мир с его сложной жизнью, с человеческими страстями, с борьбой за лучшее будущее, с вековой мечтой о народном счастье. И немалой радостью для всех слушателей было то, что они могли тут же сказать свое слово о прослушанном (и учитель тут же запишет в тетрадь!), похвалить чародея художественной речи или упрекнуть за невзыскательность и возмутиться неправдоподобностью. Знакомясь с русской и зарубежной классикой, с современными писателями, коммунары проходили своеобразный «университет словесности». Принимая или отвергая ту или иную книгу, они чувствовали свою ответственность: пусть порадуются другие (учитель напишет о крестьянском «приговоре») яркому сочинению, полному правды жизни, или не тратят время на знакомство с бесталанной чепухой. Вот как они, коммунары, говорили о гении русского народа:
Коптелов А. Л., Новосибирск. Wikimedia Commons. Автор фотографии в источнике не указан
– Стихами Пушкина не налюбуешься! Не шел бы домой!
– Для меня была беда при чтении Пушкина. Шут ее знает как и быть! Старухе моей надо слушать Пушкина, Ваське с Нюркой тоже надо и мне надо! А дома некому за маленькими глядеть. Никто не хочет домоседить. Так я уж так делаю: усыплю маленьких, хату на замок и в школу.



![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)