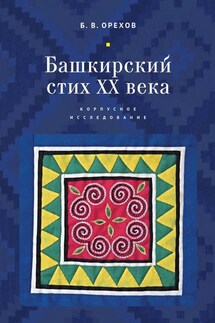Башкирский стих XX века. Корпусное исследование - страница 22
Другое наблюдение Г. Б. Хусаинова касается способности полустиший длинных строк превращаться в самостоятельные стихи. Преобразование 12-сложника в чередующиеся 8- и 4-сложники признаётся более вероятным, чем распадение двенадцатисложной строки на два полустишия равной длины, так как цезура после шестого слога в башкирском стихосложении неустойчива (стр. 88). Сочетания 8- и 3-сложника, а также 4- и 7-сложника, в свою очередь, объявляются дериватами 11-сложника. В то же время автор отмечает, что даже в одиннадцатисложном размере постоянная цезура может отсутствовать. Со ссылкой на Ф. Е. Корша Г. Б. Хусаинов отмечает, что отличие тюркского 11-сложника от французского в том, что первый обычно распадается на два полустишия 7+4, а второй – 4+7 (стр. 90).
Несмотря на общее утверждение, что башкирская поэзия по своей природе силлабическая, автор признаёт наличие в ней стихов, написанных силлабо-тоническими размерами ямбом и хореем (стр. 91), а также логаэдов (Г. Б. Хусаинов называет их дольниками), в которых нечётные строки строго ямбические, а в чётных последняя стопа (что важно, она совпадает с позицией рифмы) оформлена как стопа анапеста. Далее стихотворение Х. Карима (стр. 93), включающее из 4- и 5-сложные строки, будет рассматриваться как состоящее из 13-сложных стихов, в которых чередуются пятистопный ямб и одностопный анапест. С точки зрения современного состояния науки такие замечания воспринимаются как досадные непоследовательности, вполне, впрочем, объясняемые тем, что статья написана ещё до выхода основных обобщающих и упорядочивающих стиховедческую терминологию трудов на русском языке. Финал статьи посвящён наблюдениям над строфикой и рифмой фольклорных произведений, в частности, особенное внимание уделено внутренней рифме в паремиологических текстах и героическом эпосе.
2.2.3. Татарское стиховедение 1960‒1970-х
Текст доклада Х. У. Усманова [Усманов 1960] вводит читателя в курс базовых понятий татарского стиховедения. Автор утверждает, что система стихосложения в татарской поэзии (как и в других тюркоязычных) силлабическая (стр. 1), однако строки одинаковой длины звучат для носителя языка совершенно по-разному, если разной будет длина ритмических групп, из которых эти строки состоят (стр. 2). К описанию стиха привлекается понятие цезуры, правда, в каком-то особенном понимании, так как допускается, что цезура (то есть словораздел) может проходиться в татарском стихе на середину слова (стр. 3). Некоторое место в докладе посвящено и роли открытых слогов в организации ритма (стр. 3‒7). В частности, утверждается, что современные поэты, несмотря на полный переход татарской поэзии на силлабическую систему, иногда всё же прибегают к называемому классическим принципу, при котором ритмическая организация достигается регулярным появлением открытых слогов в одних и тех же местах строки.
В диссертации М. Х. Бакирова [Бакиров 1972] мы находим довольно любопытный терминологический прецедент. «Народной» здесь именуется не только фольклорная, но и вообще вся силлабическая поэзия на татарском языке, включая авторские тексты, написанные не арузом (стр. 4). Далее, имея в виду метрическую организацию силлабического стиха, автор задаётся вопросом, «почему процесс нормализации и упорядочения шел вокруг определенных ячеек и “волшебных” цифр» (стр. 9), и с помощью статистических методов находит на него ответ: «По данным исследователя, вышеупомянутые “волшебные” цифры, несомненно, связаны со средней величиной синтагм и предложений тюркского, а следовательно, и татарского языков. Первое из них, число 7 (8), приходится у тюркских народов на нижний регистр наиболее часто встречающихся смысловых единиц, число же 11 (12) указывает на его верхнюю границу» (стр. 9). Диссертант подчёркивает разницу между метром и ритмом в силлабическом стихе, отмечая, что «разнообразие ритмов создается здесь, главным образом, за счет неметрических единиц – словоразделов, постоянно меняющихся в зависимости от количества и длины слов в ритмических звеньях» (стр. 12).