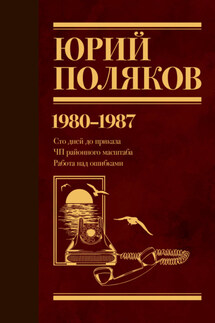Белка - страница 13
После того достопамятного дня учительница принялась действовать. Теперь все рисунки Акутин должен был показывать ей. Это уже выглядело как некое принуждение. Она разбирала рисунки и наставляла его, может быть, наставления были и полезны для развития способностей мальчика, но душа его смущалась все больше, и порою рисовать ему вовсе не хотелось. У него, к сожалению, не было моей беличьей проницательности, иначе он сразу бы распознал, что за зверь одарил его своим вниманием.
Теперь часто бывало, что, специально освобожденный для рисования – благодаря хлопотам учительницы, – Акутин делал вид, что уходит с альбомом на Оку, а сам кружным путем пробирался в захламленный сарай, где стоял верстак, утонувший в сугробах курчавой стружки, а в углу на кирпичах покоился остов небольшой автомашины без колес, с разобранным мотором. К стене был приставлен новый гроб, так и не использованный по назначению, сделанный старым детдомовским столяром Февралевым, который недавно умер и был почему-то похоронен не в этой домовине собственного изготовления. Акутин употребил гробовой ящик с большей пользой: поставил за верстаком, набил стружками и устроил мягкое ложе. В сарай никто не наведывался, испытывая страх перед этим неиспользованным гробом, и никому в голову не пришло как-то избавиться от него. Так и оставался сарай местом мистическим, детдомовскою публикой тщательно избегаемым, и Акутин был вполне доволен, что нашел убежище, где чувствовал себя вдалеке от посягательств учительницы, все настойчивее говорившей о его способностях. Но она выследила его…
Итак, выследила она Акутина, который вкусно похрапывал в гробу столяра Февралева. Дело было весною, в пору таяния снегов и томительных дней первого тепла, когда так и тянет на дрему и ленивый покой, голова сама клонится во хмелю новой весны. Учительница сухо зашуршала стружками и присела на край гроба, в котором Акутин возлежал, словно некий аскет, с молитвами на устах ожидающий смерти.
– Ну и что ты хочешь этим доказать? – спросила учительница, с чьей гладко причесанной головы соскользнула назад, к затылку, пуховая шаль тонкой вязки.
Акутин, ничего не желавший доказать, обошелся в ответ молчанием и хотел встать из гроба, но она протянула руку, толкнула его в грудь, молча повелевая ему лежать, и он послушно лег обратно, невольно закрыв глаза, ибо сквозь распахнутую настежь дверь влетел луч солнца, просек надвое полутьму сарая и ударил ему в лицо. Было странным ощущение теплого луча, будто волнующий знак снаружи, из мира, где все правильно, хорошо, в мир заблуждений, печали и смутной вины мальчика. Он после хмельного весеннего сна вдруг ощутил такую новизну восприятия, что даже нетесаная балка над головою, шуршащие стружки вокруг, солнечный свет и красивая учительница, промелькнувшая перед глазами, казались ему никогда раньше не виданными причудливыми реалиями ему неизвестной действительности.
Не мешайте мне летать – я лечу, лечу над синей водою озера! Дует ветер, он меня сносит к дальнему берегу, на лету клонит, опрокидывает вниз головою, и я вижу близко, возле самого лица, небольшие волны, частые, разрываемые на пенистые клочки и такие сочно-синие, что, кажется, выпачкаешь руку, если окунешь ее в воду; ветер подбрасывает меня, вновь переворачивает, и я теперь вижу одно лишь небо да сосны, вершины которых запутались в ослепительной вате пушистых облаков. И мне не надо рисовать эти сосны, облака и волны. Я могу просто протянуть вперед руку и пальцем обозначить в небе контур сосны. Или взять соломинку потоньше и нарисовать прямо на воде все извилины и паутинные пряди солнца внутри волны. Зачем мне бумага и карандаш, который надо без конца затачивать?