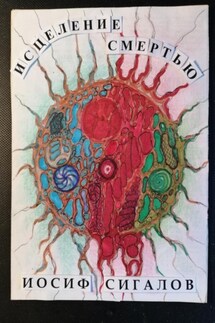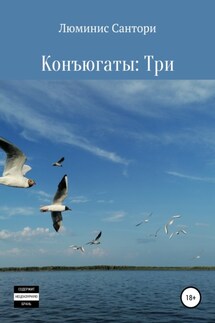Белый Ковель - страница 23
– Бойкий мальчик, – чуть слышно пробормотал Роман и продолжил громче, обращаясь уже ко всем: – Дарго Роман Геннадьевич, доцент кафедры общей физики.
– Ольга, – улыбнулась его жена, решив сократить представление собственной особы до минимума, и кивнула профессору: – Я тоже в Академии Наук работаю.
– О! Коллега! Ученый! А в какой отрасли? Ботаника? Генетика?
– Увы. Всего лишь инспектор по кадрам. В ИМАФ-е, Институте молекулярной и атомной физики.
– Это же рядом с нами, на Сурганова? Ждем-ждем, обязательно ждем в гости! – профессор довольно потер ручки. – А пока… – он повернулся к руинам. – Наслышаны? Желаете узнать подробности?
Не дожидаясь ответа, историк резво запрыгал вперед. Роман с Ольгой двинулись вслед за ним и через пару метров уже заглядывали в довольно глубокую траншею, отходящую от единственной уцелевшей башни.
– Вы были в Мирском Замке? Ну, конечно же, вы были в Мирском замке! Все были в Мирском замке! – спросил и тут же сам себе ответил профессор. – Вы помните, какой он огромный? Так вот, этот был по площади в три раза больше! И красивее, да, красивее! Широкие окна, украшенные картушами. Изысканный рельефный декор башен, фасадов. И он был белоснежный, оштукатуренный и белоснежный! «Белый Ковель» называли его! А знаете, почему Ковель? Князья Сангушки выменяли Смоляны, Горваль и Обольцы у московского князя Андрея Курбского. А взамен отдали Ковель, что на Волыни. Вот в память о главном родовом имении Сангушки-Ковельские и назвали так свою Смолянскую резиденцию. Красивейший замок! А вот о внутреннем его убранстве сейчас судить сложно. Все историки упоминают знаменитые угловые камины в покоях замка, украшенные изразцами с геральдическими и растительными сюжетами. Известно также, что стены парадных помещений были расписаны удивительными фресками, которые, впрочем, погибли почти сразу же. Сам же Самуэль Семен Сангушко, при котором строили замок, и велел их закрасить, как вступил в пору старости. Заменить религиозными сюжетами о неотвратимости смерти и забытья. Впрочем, и это все утрачено. Остались только подвалы. И несколько подземных ходов…
1708 год, июнь
…Катерина смотрела сквозь струи дождя, бежавшие по стеклу. Противоположное крыло замка – серое, почти черное. Ни искры света в огромных темных проемах окон. Не по-летнему хмурые тучи, казалось, опустились прямо на крышу и стекали вниз, во двор. Холодно. От сырых стен тянет стылостью. Когда последний раз топили? Она забыла. Катерина перевела взгляд на свои тонкие, почти прозрачные кисти. Надо наконец-то собраться с силами и спуститься в подвалы, посмотреть, что там осталось из еды. Когда последний раз пополнялись запасы, она тоже забыла. Местечко опустело. Люди зарыли зерно, у кого оно еще оставалось, и ушли в лес. И вся дворцовая челядь, которую традиционно селили за пределами замка, в собственных домах, тоже ушла. Страх перед надвигающейся войной оказался сильнее обязательств перед княжеской семьей. Впрочем, из всего рода в замке только она одна и осталась. Даже находись прислуга рядом с ней, да хоть в ее собственных покоях, как бы она удержала их? Катерина никого не осуждала. Еще живы те, кому удалось спастись в страшной войне против Речи Посполитой русского царя Алексея Михайловича. Мстиславль тогда вырезали весь, а это пятнадцать тысяч… В Гомеле не уцелел практически никто… За тринадцать лет, с тысяча шестьсот пятьдесят четвертого по шестьдесят седьмой, в Великом княжестве погиб каждый второй. А здесь, в Витебском воеводстве, ближе к восточной границе – уничтожено две трети. И люди помнят об этом. А кто не помнит, тому рассказывали. Пока что еще есть кому помнить и кому рассказывать. Сейчас под Бешенковичами и Чашниками стоит русский царь Петр. И молва о нем летит впереди его армии, и хуже она, чем слава батюшки его, не поминаемого к ночи. Одни зарубленные в Полоцке священники чего стоят. Не погнушался царь собственноручно к сабельке приложится, не погнушался. А дальше еще хуже. Правитель, искренне считающий себя верующим, не удостоил умерщвленных даже христианского погребения. Велел тела викария Константина Зайковского и еще четырех жертв своего разгула сжечь. Да пепел над Двиной развеять – дескать, чтоб могилы их не стали местом паломничества. Ненавидел русский царь униатов, вот уж воистину «в чужой монастырь, да со своим уставом» – и в прямом смысле, и иносказательно.