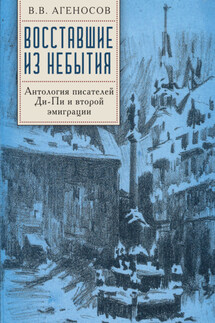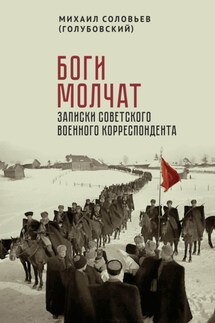Боги молчат. Записки советского военного корреспондента - страница 2
Но если Марку Сурову понадобится еще немало времени, чтобы во втором томе романа понять, что цель не оправдывает средства, то М. Соловьев пытается уже в первом томе найти истоки этого заблуждения – особенность русского характера, по мнению писателя:
«однолюбство, исступленная приверженность единоверию и легкость, с какой мы подавляем сомнения, не зная им подлинной цены. Сомнения мы часто принимаем за слабость, тогда как с них всё великое зачинается. Другой стороной нашего однолюбства является нетерпимость к инакомыслящим. Того, который не согласен с нами, мы сразу к врагам причисляем, огнем и мечом истребляем».
Итогом первого тома служит авторское начало тома второго:
«Россия во тьме задыхалась; мутное солнце обреченности, под которым ей довелось жить, не светило и не грело – мертвое солнце. Просто немыслимо придумать, какое зло до войны совершено еще не было и что не было сделано, чтобы русскую народную правду окончательно забить и в глубокое подполье загнать. Вовсе одинокой и беззащитной правда тогда осталась – ведь она в человеке живет, делами его движется, совестью его дышит, а если человек задавлен и страшно, самоубийственно молчит, и страшно, самоубийственно голосует, апробирует и аплодирует, то какая же он правде защита? Одним словом, перед войной тянулись годы, когда Россия набухала горем, а годы эти предуготовили минуту-смерч – войну».
М. Соловьев рассказывает о том хаосе, который творился в первые дни войны, и одновременно показывает, как рядовые красноармейцы и их командиры в этой неразберихе совершали подвиги, как ценой многочисленных потерь совершался героический рейд в тыл врага. Не обходит писатель и вопрос о цене подвига. «Как при поражениях, так и при победах, русских солдат гибло больше, чем солдат противника, – подчеркивает автор романа. – О сохранении жизни воюющего человека те, что наверху, думать не хотели, что делает солдатский подвиг вдвойне святым».
Показана в книге и судьба попавших в плен советских солдат и офицеров. Лишь в наши дни стали известны страшные цифры потерь: за первые четыре месяца войны в плен по официальным данным попали 3,3 миллиона человек. Яркие конкретные описания существования в фашистских пересыльных лагерях, устроенных прямо в поле, писатель сопровождает страшным мартирологом: «Сколько людей в тех пересылках было – не считано, сколько в общих ямах-могилах погребено – неведомо, сколько беды лагерные люди хлебнули – не рассказано». Автор отдает дань уважения советским военным врачам и медицинским сестрам, спасшим тысячи узников, называя их великими подвижниками: «Они… боролись в голоде, в царстве вши, в мире великого отчаяния».
Сегодняшнему читателю все эти факты покажутся знакомыми. Он знает их из повестей Константина Воробьева «Убиты под Москвой» (1963) и «Это мы, Господи!» (опубликован в 1986); из романов В. Гроссмана «Жизнь и судьба» (опубликован за рубежом в 1980, в Советском Союзе в 1988) и В. Астафьева «Прокляты и убиты» (1995). Не лишне напомнить, что «Когда боги молчат» вышли зарубежом в 1953 году.
Есть и еще один аспект войны, до сих пор лишь слегка получивший отображение и осмысление, как в научной, так и в художественной литературе. Речь идет о жизни нашего народа в фашистском тылу, под фашистским игом.
«В войну… было много такого, о чем не говорится и, Бог весть, будет ли сказано… Много лет с войны прошло, а правде о тогдашней жизни людей, отданных врагу, до сих пор хода не дается», – говорит Соловьев в одном из авторских отступлений и пытается восстановить утаенную правду.