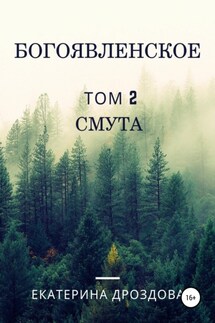Богоявленское. Том 2. Смута - страница 26
– Что с вами, Лавров? – спросил Михаэль.
– Почудилось, будто он жив, – почти шепотом ответил Лавров, указывая на другого немецкого солдата так, будто тот и впрямь жив и может услышать их.
– Совершенно, как живой, – повторил Лавров. – Вы знаете, ваше высокоблагородие, вот сейчас, от вида этих мертвецов, мне даже страшнее, чем от самого боя. Знаю, мне должно быть совестно от этого признания, но это так.
Михаэль посмотрел на солдата, о котором говорил Лавров и отёр глаза ладонью, будто пытаясь проснуться после дурного сна. Вид этого бойца и впрямь наводил ужас. Он наполовину вставил снаряд в орудие и, с не отнятыми от него руками, стоя на коленях, смотрел с каким-то особым удивлением вверх и, казалось, спрашивал, в чём дело.
И всё-таки фигуры эти только издали казались живыми. Когда Михаэль с Лавровым подошли ближе, то увидели, что у офицера три четверти головы сзади были оторваны, и осталась буквально одна маска, а у солдата выбит был весь живот.
– По-видимому, смерть была моментальная и безболезненная, – осторожно предположил Лавров. – Поэтому и сохранилось такое живое выражение на их лицах.
И сказав эти слова, Лавров неожиданно пошатнулся и взялся за горло. Лицо его резко побледнело, и щёки неестественно надулись. Едва успев сделать несколько шагов в сторону от Михаэля, его вырвало.
В мирные дни Лавров не представлял себе войну такой. Он вообще не думал о ней, пока не оказался на фронте. До этого война представлялась ему чем-то абстрактным, как на учениях, где есть маневры, есть стрельбы, но реальных увечий и смертей нет и быть не может. И вот они есть, и вот она настоящая война, и он видит её своими глазами, и она страшна. И то, что он, командир роты, жизнь которых на войне длится не более пятнадцати дней, остался сегодня жив и даже не ранен, виделось ему большой удачей. Но, как долго будет сопутствовать ему эта удача? Насколько ещё боев её хватит? Та уверенность, что война эта ненадолго, которая преобладала в большинстве бойцов, и в Лаврове тоже, после сегодняшнего боя, стала гораздо меньше.
– Пойдём отсюда, – сказал Михаэль, протянув Лаврову носовой платок.
Проходя мимо батареи, расстрелянной на самом выезде на позицию в полной запряжке, не успевшей не только открыть огонь, но даже остановиться, их взгляду снова предстала страшная картина убитых людей и лошадей, дружно лежащих вместе на своих местах. Глядя на убитых лошадей Михаэль сказал:
– Это вторая моя война, и, как и в японскую, не могу сдержать в себе жалости к лошадям. Бедные животные. Разве они виноваты во всей этой катастрофе, случившейся между людьми? Ну, а вы молодец, прапорщик Лавров! Из вас выйдет славный командир!
– Спасибо, ваше высокоблагородие! Но стоит признать, я не на шутку испугался сегодня. Испугался и растерялся.
– Это от неопытности, голубчик. Вам верно не больше двадцати лет?
– Двадцать четыре. Должно быть, и этим солдатам не больше, и нашим. И у всех них есть родители. Какое горе к ним всем пришло.
– Это похвально, что вы жалеете людей. Это важно для офицера. Всегда помните об этом, ибо нет ничего страшнее жестокости офицера по отношению к своему солдату, да и к солдату противника.
– Как же иначе, ведь и у меня в Смоленске мать и сестрёнки, и у них кроме меня никого.
– Вы выходит смоленский. А отец что же?
– Отец мой погиб в японскую. Он из потомственных дворян был. Без него имение наше обветшало. Матушке не раз предлагали его продать, но она всегда отказывается, бережёт в память о нём, даже невзирая на то, что долги наши копятся. А сам я по окончании кадетского корпуса учился в Александровском военном училище.