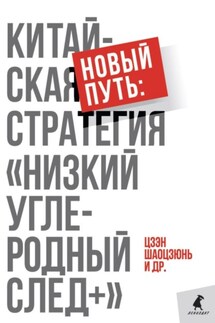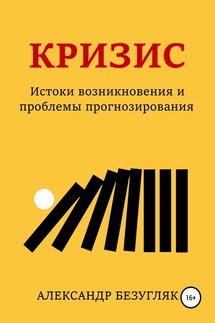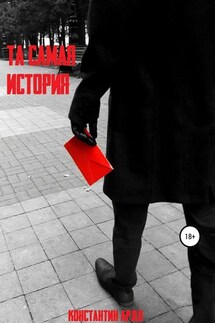Большая цифра. Как цифровизация и цифровые гиганты меняют мир, экономику и финансы, и как меняются сами - страница 2
Рисунок 1.1
Источник: A Visualization of Europe’s Non-Bubbly Economy. Andrew McAfee (MIT). Dec 02, 2024. URL: https://geekway.substack.com/p/a-visualization-of-europes-non-bubbly (дата обращения: 15.03.2025)
А частое обращение автора к биржевой капитализации лидеров рынка как к важнейшему мерилу их показателей – это не воспоминание о работе в одной из технологических компаний, где курс акций был источником каждодневных радостей и разочарований для сотрудников, получивших так и не реализованные большинством сток-опционы (право на выкуп акции по фиксированной цене, приносящее прибыль в случае ее удорожания). Это важный фактор оценки доступных для компании ресурсов, ее перспектив и ожидаемой доли от мирового «пирога». Рост капитализации означает удешевление капитала, ключевого ресурса. Компании дешевле «поднимать» капитал на рынке, привлекать самых талантливых людей за счет сток-опционов, но и долго функционировать, аккумулируя прибыль и не выплачивая или недоплачивая дивиденды, – акционеры готовы удовольствоваться ростом стоимости акций[5]. Рост капитализации – это еще, как правило, и отражение положительных мнений аналитиков по поводу компании и прогнозов роста рынка, далеко не всегда точных и правильных, но лучшего не найдешь.
Книгу можно упрекнуть в определенном, но, на мой взгляд, почти неизбежном американоцентризме. Связано это с тем, что история цифровизации до последнего десятилетия, когда Россия и Китай[6] в некоторых областях смогли сделать существенный рывок вперед, определялась достижениями «за океаном», причем и для нас, и для КНР – скорее за Тихим, чем Атлантическим, – в Калифорнии. Говорить о сегодняшнем американском доминировании вполне уместно, «гегемоном» цифровизации пока еще (надолго ли?) остаются США.
Если бы я задумал книгу о цифровизации в 1980-е, то это, скорее всего, было бы пособие о том, как пользоваться компьютером. Спустя 20 лет, в нулевые, я и мои соавторы писали, как цифровизация меняет бизнес и как много всего полезного (лишь с небольшими оговорками) объединенные в сети компьютеры способны привнести в большие организации. Спустя еще 20 лет и еще одна ступень вверх – теперь надо говорить о цифровизации как чуть ли не о ключевом факторе мирового развития и порядка, причем далеко не столь комплиментарно, как в нулевые, о разочаровании и несбывшихся надеждах от того, как этот в общем-то нейтральный по своей природе инструмент используется теми, кто его сегодня контролирует.
Сложно себе представить сюжет похожей книги через 20 лет: будет ли это рассказ о том, как под аккомпанемент обаятельных футурологов вроде Харари или Курцвейла будут предприниматься попытки разрушить цифровизацией саму природу человека и ткань нашего общества? Или как спрятаться от технологий, навязываемых все более влиятельными корпорациями, от цифровых олигархов с их довольно специфическим мировоззрением? Хотелось бы этого избежать.
Ваш автор остается на стороне тех, кто верит, что технологии – это прогресс и благо. Что, по крайней мере в России, цифровизация лишь в начале пути, и многие замечательные достижения последних лет будут закреплены и развиты сугубо в позитивном русле.
Откуда появился сам этот термин – «цифровизация»? Было ли в начале слово? Ведь не просто так, не на пустом месте американский предприниматель, инвестор и публицист «со связями» Николас Негропонте (брат Госсекретаря США при Буше) ввел его в оборот в 1995 г.?