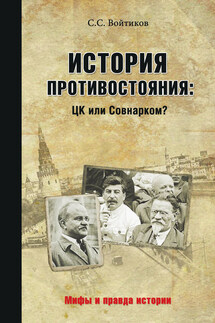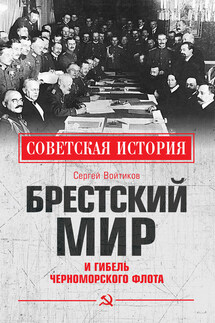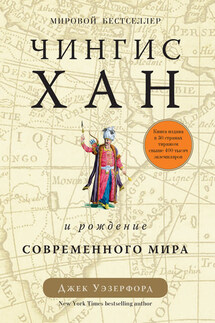Читать онлайн Сергей Войтиков - Брестский мир и гибель Черноморского флота
Предисловие
Историю Черноморского флота между февралем 1917 г. и июнем 1918 г. нельзя признать белым пятном в отечественной историографии. Достаточно указать книги и диссертации Н. М. Гречанюка и П. И. Попова[1], А.Г. и В. Г. Зарубиных[2], А. И. Козлова[3], В. В. Крестьянникова[4], А. П. Павленко[5], В. Д. Поликарпова[6], А. С. Пученкова[7], А. К. Селяничева[8], И. Т. Сирченко[9], Д. В. Соколова[10], А. А. Цецорина[11], А. М. Чикина[12], В. А. Широкова[13]. Сюжеты, связанные с трагедией российского флота, затронуты и в коллективных монографиях[14], и в статьях[15].
В настоящей книге история Черноморского флота в 1917–1918 гг. изучена на основании опубликованных источников, а также документов Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного военного архива (РГВА) и Центрального государственного архива города Москвы (ЦГА Москвы). Неопубликованные источники позволяют расширить существующие представления о ходе Февральской и Октябрьской революций на Черноморском флоте, по-новому рассмотреть «Варфоломеевские/Еремеевские ночи на флоте», изучить механизм принятия судьбоносных для Черноморского флота решений в 1918 г.
Традиционно история Черноморского флота в 1917–1918 гг. исследуется на основании воспоминаний, показаний на допросах в Иркутской ЧК А. В. Колчака, опубликованных сборниках документов, документов Российского государственного архива Военно-морского флота и некоторых других архивов. Дневниковые записи и воспоминания А. И. Верховского[16] позволяют понять, насколько стремительно командный состав Черноморского флота терял власть на флоте весной 1917 г.[17] Мемуарные работы И. П. Борисенко[18] В. К. Жукова[19], В. А. Кукеля[20], Н. А. Монастырева[21], А. П. Платонова[22], Ф. Ф. Раскольникова[23], С. С. Хесина[24] помогают воссоздать обстановку 1917–1918 гг. в Севастополе и на Черноморском флоте, те из указанных работ, что были созданы в Советской России (все, за исключением мемуаров Монастырева), содержат богатую фактуру, основанную в том числе на архивных материалах. Следует отметить, что многие воспоминания рассказывают о личных переживаниях их авторов: В. К. Жуков с болью в сердце написал о сопротивлении германским оккупантам Николаева[25], В. А. Кукель и Н. А. Монастырев – о потоплении кораблей. Естественно, как и любые мемуары, данные содержат ошибки и неточности, которые требуют исправления по архивным документам.
Определенную сложность в реконструкции механизма принятия ключевых решений о судьбе Черноморского флота вызывает целенаправленное умолчание советских мемуарных источников 1930-х гг. и последующих исследований советских историков о ряде военно-политических деятелей, непосредственно ответственных за события 18 июня 1918 г. Сначала (1927) был сослан в Алма-Ату, а затем и выслан из СССР (1929) Л. Д. Троцкий, в результате чего в классическом советском полумемуарном труде В. К. Жукова, вышедшем в 1931 г. с предисловием Ф. Ф. Раскольникова, фамилия «Троцкий» была повсеместно заменена на указание должности: «нарком», «нарком по морским делам»[26] и «народный комиссар по морским делам»[27], а в позднесоветских исследованиях вообще отсутствовали какие-либо сведения о роли опального «создателя Красной армии» в принятии решения о потоплении флота в 1918 г. Затем стал невозвращенцем и сам Ф. Ф. Раскольников, бежавший из СССР и опубликовавший на Западе нашумевшее открытое письмо «хозяину» партийно-государственного механизма Страны Советов с рефреном «Вы арестовали их, Сталин». Как следствие, со страниц исследований исчез и Раскольников. В самом серьезном документальном сборнике по проблеме его фамилию заменили на безликое «член коллегии Народного комиссариата по морским делам»[28]. Правда, не находилась под запретом фамилия технического исполнителя решения о потоплении флота – старшего лейтенанта Черноморского флота В. А. Кукеля: его необоснованно репрессировали, однако во время хрущевской оттепели реабилитировали. В ходе написания очерка приходилось систематически обращаться к материалам личного фонда В. И. Ленина – для того чтобы убедиться, чьи же на самом деле документы длительное время фигурируют в литературе в качестве «ленинских». Умолчания начала 1930-х гг. выглядят анекдотично еще и потому, что в них чаще названы по именам оппоненты большевиков из эсеров, меньшевиков и левых эсеров, чем оппозиционные деятели, вылетевшие из руководящей «тележки» (выражение И. В. Сталина 1927 г.) большевистской партии.
Идея книги возникла в ходе работы над изданием «Москва – Севастополь. Архивно-краеведческий альманах» (Главное архивное управление города Москвы; Центральный государственный архив города Москвы; Управление архивным делом в г. Севастополе; Архив города Севастополя. Кн. 1. М., 2016; Кн. 2. М., 2019), а также подготовки статьи в журнал «Крымский архив» (2018. № 2. С. 67–80).
Автор признателен за ценные советы коллегам – архивистам и историкам: к.и.н. А. В. Крушельницкому (ИАИ РГГУ); Л. В. Сгадлевой, к.и.н. Е. Д. Алексеевой, Л. С. Ванян, Е. И. Логачёвой, А. С. Мараховой, Л. Л. Носыревой, Н. А. Тесемниковой, к.и.н. С. И. Добренькому, к.и.н. М. Ю. Морукову (Центральный государственный архив города Москвы); И. Н. Селезнёвой, И. П. Кремень, Е. К. Тарасовой, М. В. Страхову (РГАСПИ); д. филол. н. С. А. Макуренковой; к. филос. н. В. С. Ещенко (журнал «Военно-исторический архив»); д.и.н. В. Г. Кикнадзе (журнал «Война. Наука. Оборона»); Т. Н. Осиной, д.и.н. А. А. Здановичу, к.и.н. О. И. Капчинскому (Общество изучения истории отечественных спецслужб).
Глава 1
«Наступивший 1917 год корабли встретили в море…». Черноморский флот накануне февраля
Накануне Февральской революции Черноморский флот состоял из 45 крупных боевых надводных кораблей, 12 подводных лодок и большого количества малых кораблей и вспомогательных судов. В число боевых кораблей входили новейший линкор «Екатерина II», семь эскадренных броненосцев, крейсер «Память Меркурия», три авиатранспорта и 23 эскадренных миноносца. В 1917 г. флот пополнился еще одним кораблем («Воля»), четырьмя эсминцами и тремя подводными лодками. Помимо этого, для действия на сообщениях турок оборудовали три вспомогательных крейсера. В состав Черноморского флота входили также: воздушная дивизия двухбригадного состава, транспортная флотилия, части морской пехоты, береговая артиллерия и другие специальные части и подразделения. В личном составе флота на 1 января 1917 г. насчитывался 40 361 «нижний чин» и 1463 офицера. Несмотря на потери (в ходе летней кампании 1917 г. Черноморский флот потерял эсминец «Лейтенант Зацарённый» и подводную лодку «Морж»), Черноморский флот на всем протяжении кампании 1917 г. значительно превосходил германо-турецкие морские силы, действовавшие на Черном море: к началу 1917 г. последние состояли из 29 крупных и средних надводных кораблей и четырех подводных лодок[29].
По количеству кораблей и численности личного состава Черноморский флот уступал Балтийскому, однако в то время как основной состав русского флота на Балтике бездействовал, будучи скован льдами, корабли и части Черноморского флота вели напряженную и разностороннюю боевую деятельность. В условиях суровой зимы и штормовых непогод надводные корабли и подводные лодки продолжали блокировать Босфор и анатолийское побережье Турции. Вследствие отхода войск Румынского фронта от Добруджи и неспособности 6-й армии закрепиться на правом берегу Дуная с конца 1916 г. Черноморский флот взял на себя оборону гирл Дуная. В срочном порядке в низовья реки направили корабли, части морской пехоты, артиллерию и инженерно-технические подразделения[30].
Помимо блокадных действий и мероприятий по обороне устья Дуная Черноморский флот осуществлял крупные войсковые и грузовые перевозки по Черному и Азовскому морям. Свыше 130 транспортных судов общим водоизмещением около полумиллиона тонн осуществляли перевозки людей, скота и различного рода грузов для Кавказского, Румынского и Юго-Западного фронтов, а также перевозки для гражданских организаций. Флот получал все новые и новые задания на транспортировку в связи с прогрессирующим кризисом ж.-д. транспорта[31].
Впрочем, обстановка, сложившаяся на Черноморском театре к концу 1916 г., была далеко не простой, поскольку износилась материальная часть многих кораблей (около 20 из них находилось в ремонте). Вследствие нехватки средств и материалов в Николаеве остались недостроенными крейсера и другие корабли. Тяжелой потерей стала гибель 7 октября в Северной бухте Севастополя новейшего линейного корабля «Императрица Мария». При взрыве погибло 225 человек, 85 получили тяжелые ранения. Как было установлено только в 1970-е гг., взрыв организовала германская резидентура, действовавшая в г. Николаеве[32].
Все это, однако, никак не помешало Черноморскому флоту вести деятельную подготовку к проведению крупной десантной операции совместно с Болгарской армией, целью которой ставился вывод из войны Болгарии и Турции и занятие проливов Босфор и Дарданеллы[33].
23 января 1920 г. А. В. Колчак показал на допросе в Иркутской губернской ЧК: «Вместе с назначением командующим Черноморским флотом я получил предписание явиться в Ставку для получения необходимых секретных указаний. В Ставке я явился сперва к начальнику штаба Алексееву, а затем к государю. Это было в конце июня – начале июля 1916 г. Алексеев посвятил меня в общее военное положение, затем я получил от него и государя руководящие указания. Мне было дано задание десанта в Босфор для захвата его. Государь, когда я спросил его об этом задании, сказал, что к этому надо вести подготовительную работу»[34]. По мемуарному свидетельству личного адъютанта А. В. Колчака В. В. Князева, «общее мнение в Ставке было, что контр-адмирал Колчак, по личным свойствам, сможет выполнить эту (Босфорскую. – С.В.) операцию успешнее, чем кто-либо другой»[35]. Сам А. В. Колчак отписал 9 мая 1917 г. А. В. Тимиревой: он встретил ее, «когда я уезжал 10 месяцев тому назад, чувствуя, что мои никому не известные мысли реализуются и создаются возможности решить или участвовать в решении великих задач»[36]. Подполковник (затем – полковник, генерал-майор) А. И. Верховский охарактеризовал А. В. Колчака как «настоящего солдата – смелого и решительного, горячего, неутомимого бойца, любимого своими командами»[37]. В. В. Князев поведал, что А. В. Колчак отдал приказ о подготовке Босфорской операции, которая мыслилась Ставкой «“апофеозом” победного конца войны»[38]. Для ее проведения в непосредственное распоряжение Колчака поступила дивизия ударного типа, командиром которой назначили новоиспеченного генерала Комарова[39], а затем генерала А. А. Свечина[40], а начальником штаба – А. И. Верховского. Штаб-офицер Н. Кришевский так охарактеризовал генерала Свечина: «Молодой, подвижный, фанатически любящий военное дело […] он живо подобрал выпущенные вожжи»[41]. В. В. Князев констатировал: «Ударная дивизия должна была быть выброшена первым десантом на неприятельский берег, чтобы сразу на нем о[бо]сноваться и обеспечить место для высадки для следующих за этой дивизией войск»