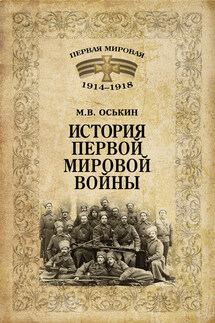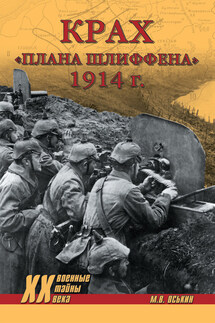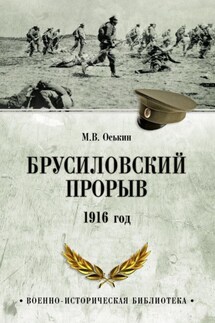Брусиловский прорыв. 1916 год - страница 11
Предварительное планирование
План действий армий Восточного фронта на кампанию 1916 г., безусловно, мог быть только наступательным. После провала германской идеи вывода Российской империи из войны в 1915 г. резервы врага перебрасывались на Запад. В феврале немцы бросились на Верден, начиная ту бессмысленную операцию, что получит наименование «Верденской мясорубки». Становилось ясно, что на востоке в 1916 г. австро-германцы ограничатся стратегической обороной. Так что единственно верный план действий – только безоговорочное наступление.
Помимо стратегии существовал и фактор престижа: русские войска оправились от поражений 1915 г., и теперь надо было рассчитаться с врагом за понесенное унижение предшествующей кампании. В действующую армию шли пополнения, техника, боеприпасы. В письме супруге от 9 февраля командарм-8 А. А. Брусилов писал: «Теперь у нас есть решительно все, что нужно: полные ряды и много запаса людей, винтовок вдоволь и сколько угодно снарядов и патронов. Войска притом хорошо за зиму обучились. Офицеров и унтер-офицеров также довольно. Одним словом, армия в таком порядке, в каком никогда не была с начала кампании»[18]. Помимо прочего, страна уже начинала уставать от войны, а потому требовалось если и не закончить войну в 1916 г., то, как минимум, получить крупную победу, дабы обеспечить внутриполитические активы монархического строя в годину тяжелых испытаний.
Также пассивное ожидание вполне могло привести к новому удару немцев на каком-либо участке фронта, что в корне разрушало наступательные планы русской Ставки. И, соответственно, наоборот – русское наступление, даже в том случае, если глубокого прорыва неприятельского фронта и не получится, логически приводило к срыву наступательных планов противника, перехватывало инициативу действий и не позволяло немцам маневрировать своими резервами между Французским и Русским фронтами.
В начале 1916 г. у М. В. Алексеева был принят на вооружение несколько иной план кампании, нежели тот, что был впоследствии доложен императору в качестве основополагающего. Первоначально генерал Алексеев намеревался сосредоточить главную группировку войск на Юго-Западном фронте. Затем должен был последовать мощный удар усиленным кулаком в Галицию и далее – на Карпаты, от рубежа Ровно – Проскуров. При этом для успеха такого крупномасштабного наступления союзники должны были предпринять одновременное с русскими наступление через Сербию и Македонию от Салоник. Пунктом встречи должен был стать Будапешт.
В тылу Юго-Западного фронта М. В. Алексеев предполагал сосредоточить всю ту конницу, что возможно будет собрать в кулак – несколько полнокровных кавалерийских корпусов. И после прорыва фронта неприятеля сто тысяч русских сабель должны были хлынуть на галицийские просторы, так пригодные для действий кавалерии[19]. Вне сомнения, при умелом руководстве, русская конница должна была просто-напросто размять копытами бегущего противника. Главное – опрокинуть врага и побудить его к беспорядочному отступлению, напоминающему бегство. Вполне вероятно, что в случае принятия такого плана штаб Ставки так или иначе приходил к мысли о создании конных армий, способных стать оперативными соединениями в тылу неприятеля, отступающего под фронтальным натиском русской пехоты.
Таким образом, целью кампании 1916 г. наштаверх первоначально ставил вывод из войны Австро-Венгрии. Бесспорно, что генерал Алексеев превосходно сознавал разницу между австрийцами и германцами. Удар по более слабому противнику вынудил бы немцев распылять свои резервы по всей Галиции, при этом не будучи особенно сильными в любой точке. Такой план безоговорочно отдавал инициативу действий в руки русских: австрийцы уже в 1915 г. не могли сражаться без помощи немцев, так неужели же они смогли бы самостоятельно вырвать у русских инициативу?