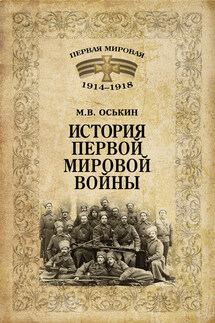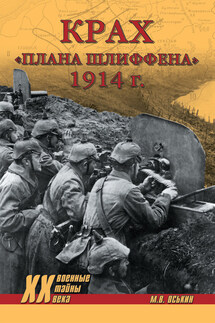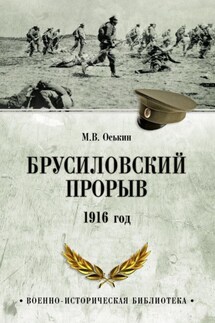Брусиловский прорыв. 1916 год - страница 13
Итак, направление русского главного удара было решено и без русских – только в Германию. Теперь оставалось избрать способ действий и участки прорыва неприятельских оборонительных рубежей. Помимо требований союзников в отношении непременного наступления и германская печать вовсю кричала о новом наступлении на Восточном фронте весной 1916 г. Поэтому наштаверх, на чьей ответственности лежала тяжесть оперативно-стратегического планирования, взял за аксиому тезис о невозможности обороны и желательности наступления, дабы предупредить возможный удар противника и не допустить повторения кампании 1915 г. Безусловно, Алексеев учел, что немцы не смогут одновременно наступать на двух фронтах (Верденская операция к апрелю уже набирала обороты), а австрийцы вообще не способны к самостоятельному наступлению, без германской поддержки.
Но и без чисто военных соображений для большой страны и великой державы пассивные действия всегда гибельны. Нельзя быть везде одинаково сильным, поэтому единственно правильным решением было наступление, чтобы вырвать у врага инициативу действий. Именно это решение было единогласно принято всеми союзниками по Антанте. Да и внутреннее положение Российской империи, шатавшееся вследствие борьбы между надламываемым войной царизмом и буржуазно-либеральной оппозицией за власть, настоятельно требовало победы, причем такой победы, что должна была стать залогом окончания войны. Таким образом, в этом плане генерал Алексеев интуитивно предугадал характер планирования кампании 1916 г.
Делая выводы в отношении стратегического планирования предстоящей летней кампании, в своем докладе на имя императора Николая II от 24 марта Алексеев указал, что «к решительному наступлению без особых перемещений мы способны только на театре севернее Полесья, где нами достигнут двойной перевес в силах». Ударные группировки расположенных севернее Полесья Северного (215 тыс. чел.) и Западного (480 тыс. чел.) фронтов должны были по сходящимся направлениям соответственно от Двинска и Молодечно нанести комбинированный удар на Вильно, развалив неприятельский фронт надвое.
Следовательно, главный удар должны были наносить армии Северного и Западного фронтов, как того требовали союзники. Как пишет в своих воспоминаниях командир 2-го гвардейского корпуса Г. О. Раух, «рассматривая вопрос исключительно с точки зрения чистой стратегии, следует, конечно, признать, что виленское направление представляло давление на важнейшего противника – немцев, и притом в направлении для них наиболее чувствительном и опасном, а потому являлось решением вопроса правильным. Однако оно грешило в одном – оно не вытекало из всей совокупности обстановки на пространстве всего нашего фронта и совершенно не было согласовано с требованиями тактики, а потому являлось научным решением в безвоздушном пространстве». Раух считал, что данное решение было принято под влиянием одного из ближайших сотрудников Алексеева, профессора-теоретика В. Е. Борисова, который увлекался чистой стратегией, малоприменимой на практике – «благодаря этому требования широкой стратегии получили в Ставке довлеющее значение, не считаясь достаточно с требованиями тактики, то есть практической жизни»[21].
К сожалению, дело было отнюдь не в Борисове, а в союзниках по Антанте. Вполне логично Алексеев пришел к выводу, что в кампании 1916 г., раз уж главный удар будет производиться севернее Полесья, Юго-Западный фронт должен получить вспомогательную задачу. При этом армии Юго-Западного фронта должны были перейти в наступление после прочих фронтов, дабы сковать стоявшего против себя противника (преимущественно австрийцев), не допустив перебросок неприятельских резервов вдоль фронта.