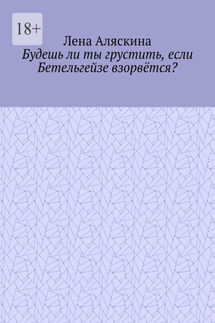Читать онлайн Лена Аляскина - Будешь ли ты грустить, если Бетельгейзе взорвётся?
© Лена Аляскина, 2023
ISBN 978-5-0060-8556-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
пролог. экстраполяция
Он хоронил себя в подснежном одеяле этой постели, в углах этой комнаты, заставленной мольбертами, горными верхушками красок, по струйкам вытекших мимо жерл, заваленной папоротниковыми шапками одежды. Он так или иначе хоронил себя в каждом месте, в котором обитала Уэйн, стараясь врастать в вещи с такой силой, чтобы собственные отпечатки осели поверх простыней и занавесок в расщелинах времени подо льдом, по которому они ходили, до панического ужаса боясь провалиться.
Все следы чужого присутствия невесомо и иногда слишком сильно напоминали о чём-то тревожном, по-подростковому восторженном, что успело начаться и странно оборвалось, как трос страховки, не получив физического завершения, застыв комочками сахара-картона на языке; какая-то иная по вкусу жизнь за пределами прошлых крепких, раскисших после ливня сигарет на двоих, купленных на последние карманные деньги. В его каморке в общежитии за счёт щепетильного до мелочей третьекурсника всегда тянуло запахом порошка и химией из массмаркета, стены сверкали в отделке, осыпаясь тростниковой морскою солью. Здесь всё было по-другому. Вступая на эту территорию, Миша чувствовал себя сгустком хаоса. Лакированные чёрной краской квадраты полок, по чьим спинкам ползли вверх коллекционные стаканы «Кока-Колы» и виниловые пластинки в конвертах, холодная прозрачность усечённых железками стеклопакетов, географические и астрономические карты, плакаты старых панк-роковских групп под толщею миндально-белой шерсти Сильвии, портреты Луи Армстронга, которые они вешали вместе, беспорядочное ощущение ускользающего уюта, которое растворялось, стоило притупившейся реальности хлопнуть в ладони оконной рамы или обрасти стеблями лапищ-ветвей стучащейся в неё сирени со двора.
Закрыв глаза и вслушавшись в томное предощущение переплетения репетиционных битов и мелких споров в коридоре, можно было без разрешения на парамнезию представить, что он становился частью огромной семьи в четырёхвекторной северольдистой коробке, почти как крошечным куском пирога. Миша смотрел на распластанный свалившимися беретами порог неотрывно, почти не моргая.
Когда Уэйн вернётся сюда из больницы, как обычно, зависнет в пасти проёма под медью спиральной лампы, расстояние между ними составит один с четвертью половины метр по наклонной. Ровно три отрезка в шагах вдоль тоненькой замороженной корки, впитавшей мерцание фотовспышек: два строгих и отработанных, как под дулом слежки, третий – вихрь – усталое падение в недо-объятие. Он расплывётся в резервуаре касаний и дыхания, словно в баке сенсорной депривации, оглушённый биением сердца под прослойкой своей-чужой толстовки.
В первый раз оказавшись здесь, он ощутил исступление, пробравшее до самых волосков на руках и ногах. Космический вакуум. Разрывами сверхновых как от прожекторов полоскало полотна стен, зигзаг торшера над макушкой светился, точно Юпитер в тягучем медовом ореоле, увешанный сатурнианскими кольцами, беззвучно плескался в спящем режиме ноутбук на столе; с таким же шипением, должно быть, на них с неба-потолка летели огненные, цитрусовые, утяжелённые плутонием пустые войды. Он был близок к тому, чтобы захлебнуться созданным Уэйн микрокосмом, озерком графического наброска, каждая деталь-звёздочка в котором имела свои запах, звук и кляксы растворимого цвета. Кожа Уэйн, акварельно растопленная кондиционером, в нейтронном освещении походила на фарфор: часы тренировок, в металл которых она себя муровала, сделали её изгибы подобиями иголочного острия, Миша мог различить каждую новую рану и трещинку на белом пергаменте у локтей, над созвездиями венок, но он не знал точно, обратятся ли эти сколы шрамами, которыми, словно майская вишня, незаметно для других зарастал он сам. Каждый из рубцов больше, чем отсылкой к невозвратному, был паттерном заземления: больше напоминанием, чем воспоминанием.
Без напоминаний это всё превращалось в устланную алмазами дорогу в никуда.
Он видел её однажды, длительным рейсом прибыв в Москву, когда в шанс по-настоящему попрощаться с памятью и вырваться из состояния клинического поиска верилось примерно как в теорию Большого Отскока. Пересекая зал ожидания, уставился в уходящую к горизонту белоснежную разметку. Придаток голого неба не кончался. Кажется, это была трасса А-105, но сейчас, оборачиваясь назад, Миша уже не мог точно сказать, существовала ли она на самом деле, – или просто распухла в нездорово-отчаянном сознании, игрушечная, как всё остальное.
i. я – провал в твоей памяти
«дело не в том, куда ты идёшь, а в том, как ты это делаешь».
(мой личный штат айдахо, 1991)
Вся суть была в крупицах соли, забивающихся ему в глаза и под одежду, щипающих там острыми клычками влажную плоть до тех пор, пока не сводило от напряжения бабочку носоглотки и пока хлопьями шиммерными не закладывало стенки черепа, в тёмно-зелёном пятне неба над горизонтом – куполом, в гончих псах; в том, что он никогда не мог сам выскочить из кошмара.
Многие образы сгустками выбрасывались на него оттуда, как кровь из аорты, и пульсировали, расширяясь, сокращаясь: линейка асфальта обращалась в облипку извивающейся горою органики, звёзды наливались как сметана вязкой, наркозно-серебристой волною запахов, горьким полынным ветром, яблочным тинтом, жёсткими костями, вдоль аэродрома пульса под горлом крошечное сердце разгоняя так, что отзвуки, словно колокольный звон, биения снегом оседали где-то за поверхностью сновидения, – поначалу было сложно собрать из сумбура деталей целый пейзаж, не то, что его узнать. Страх. У себя в грудной клетке он находил липкие пальцы этого страха, а потом падал в оттаявшие пески побережья спиною, не оглядываясь, проводя проверку на доверие – поймают, нет?
«Ты как бомба замедленного действия. Ты терпишь, но однажды просто не выдержишь и взорвёшься, убив всех своими осколками», – а ему казалось, что всё время Вселенной зависло, и только одна огромная слепящая Звезда Смерти наблюдала за падением с небосвода.
Мир, который виделся соцветием телескопических огней, бликов фар, зеркальных стен танцкласса, карт на кнопках по уголкам, масла на холстах, плакатов с летающими тарелками под чёрно-молочной выделкой, клубничных «Лаки Страйк», вертелся и кружился в танце со влажной, червивою землёй. Мерещилось, будто в ветвях тонкокостные жидкие лапки птичек венками-перерезанностями ложились на хрупкость небесной кожи, и их уродливые клювы что-то тормошили в текучей почве, – он видел всё это через хлипкий объектив зрачка, чьё-то муторное серое небо, уходящее в землю. Видел, будто натянутые до предела струны, скомканные конечности, видел месиво запутавшихся ног: его ловили.
«Ты – это бомба замедленного действия, Миша! Если будешь держать всё в себе, то скоро взорвёшься! Слышишь? Взор-вёшь-ся!»
Бешеные собаки с булавками-зрачками, вылетевшими из орбит райков, неловко поддерживали ослабевшие тощие рёбра, а затем, ни звука не выводя, медленно опускали в изумрудную колышущуюся липкость. И пока с визжащими губами-мигалками его ничего не понимающее тело везли в воображаемую больницу, думал, почему нельзя было просто взять и исчезнуть навсегда прямо там, в гранях залива, параллелях и меридианах пространства кирпичей, пропасть из памяти остальных и над кристально-чистым морем бризом рассеяться, чтоб не было видно с самой высокой точки с моста над рекою Кник, с облачных пластиков небоскрёбов, – будто его – никогда – не было?..
«Взорвёшься! Самоликвидируешься и умрёшь, умрёшь!»
Трёхмерный узор блестящего глиттера-ада с кровожадными псами на пляже напоминал собственный разум как что-то, исхоженное по периметру, тысячи раз перешитое и перекроенное, заранее мёртвое и больное, не поддающееся диагностике, бесстыдно дефектное; это всё были инфернальные фрагментывырезки подсознания, которые проносились за секунду мерцанием перед и внутри глаз, подогревая кончики чёлки, но они были до боли живыми и жуткими, до сжатия сердца настоящими.
«Ты умрёшь, Миша! Умрёшь, и знаешь, что? Знаешь, что? Знаешь, что? Знаешь, что? Знаешь, что?»
– Миша?..
Он, отмерев, смог заставить себя поднять веки.
Во дворе, на залитой алозакатной мутью площадке тишина по сравнению с прибившими его лаем и рычанием висела настолько оглушающая, что от неё хотелось зарыться под слоями щебня и пластмассы и провалиться куда-нибудь в голодную сине-белую почву, прямо под брызги сакурными лепестками расплескавшегося пепла: сигарета недокуренной таяла между пальцев. От мысли о том, что ещё сантиметр – и оставила бы уродливый ожог-ящерицу на костяшке, у Миши холодок свежим цунами заштормовал в подреберье. Он всматривался в слепящую острым белеющим разрезом детскую горку; после кошмара чудилось, что вся она с качелями и острозубою песочницей, болтавшийся остриём иголки горизонт за нею последовали остальным гробницам Анкориджа и похолодели, готовясь к Судному дню, тьмою опрокинувшейся красили стены домов в геометрию льдисто-голубого, – он с трудом узнавал здесь всё.
– Ты что, заснул на улице? – Уэйн, нависая, перед стальным холодом столбов, глядела на него смесью удивления и любопытства, бледное отражение плясало на дне металлической гущи; змеисто исколотые (временными, наверное, от Евы) руки – крестом позади спины, мелкие звёздочки-искорки на скуловой кости. Она несколько раз моргнула, ожидая от Миши хотя бы чего-то, и стык ресниц подогнулся. Не дождалась. Протянула руку, несколько медля перед тем, как произнести: – Пойдём в дом, а то все уже расходятся. Тебя очень долго искали.
Миша туманно осмотрел её очерченную умирающими клетками-делениями солнца фигуру, венком прозрачным расцвётшие кругом головы в карамеле и патоке облака-барашки, потом ладонь, расправленную ему навстречу, и выдавил улыбку, в сотый раз честно стараясь сделать её мило-приятной и честно проваливая миссию, сунул дрожащие уголки губ в глотку, – но за руку не схватился и поднялся сам. Уэйн тут же спрятала запястья в карманы. С отлитой киноварью горки за темечком её во все существующие и нет стороны по разметке били голубые глыбы замороженного воздуха. Миша оставил сигарету втоптанной в песочницу: будет чуть-чуть досадно, если дети отыщут её, как и десятки скелетных окурков до.
Успевшие разложиться гниловатые кустарники вверх по улице своими листами, наполовину поеденными насекомыми, золотились-мерещились в дынном свечении смертоносными колючками, к ним канатом пролегала дорожка из щербатых полосочек, будто вафель, и приходилось без конца моргать. Пока они сквозь густой мрак и синеватость уже остывшего от раздражённого непривычного пекла квартала молча шли до дома, через заросли елей, их ветвистые созвездия-грозди, он чувствовал, как его пронзительно сверлят взглядом, почти как сканируют сверху вниз: острая траектория кусала за подбородок, огибала выгиб кадыка, помеченный чокером из серебристых сердечек – замирала где-то в ключичной ямке под расстёгнутыми от градуса в артериях пуговицами на вороте.
Финиш летней сессии, разбавленный августовской ремиссией, лишил свежей крови всё его тело, нечто тяжёлое было в холодном июне с лазурно-небесными сугробами-ветрами, бирюзою блестели мониторы с оценками, строгой слоновою костью – разбитые костяшки рук, пальцы, побелевшие от антидепрессантов; из-за учёбы совсем не оставалось времени, сил и средств на психотерапию, зато сигареты, даже самые дешёвые из минимаркета за углом университета, отлично справлялись с тревогой, накатывающей на щитовидный хрящ с тою же энергией, с какой полуночные приливы бросались на скалистые рваные берега. Неудивительно, что пропагандирующие здоровый образ жизни члены стаи подобного не одобряли, хотя в этом усматривалось нечто лицемерное. От Уэйн, от ворота её ветровки, накинутой – Миша не был уверен, но рассмотрел, приглядевшись, колко блеснувшее в туманомгле лезвие бледной ключицы, – на одну майку пахло фиалковым сиропом.