Былины. Современный взгляд на русский героический эпос - страница 2
Как замечательно сказал Д. С. Лихачев: «Русские создали даже обозначение для особого вида храбрости – храбрости в пространстве, храбрости в движении – «удаль»5.
Герои нашей былины тоже странники, собравшиеся у «Леванидова креста» в количестве сорока6 плюс один человек, и отправившиеся в «Ерусалим-град».
Надо сказать, что русское паломничество в Палестину попадает на страницы русских книжников в XII веке. Именно этим временем (начало XII в.) датировано «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли» – самое ранее из русских описаний Святой земли7.
Одна из русских летописей также сообщает о путешествии сорока новгородских богомольцев в Иерусалим8. К этому же времени относится и рассматриваемая былина «Сорок калик со каликою». И у нас есть все основания считать, что движение русских паломников на Святую землю в XII веке приняло массовый характер.
Наши «сорок калик со каликою» перед своим дальним странствием принимают очень жесткую аскезу – осознанное и добровольное ограничение всех плотских удовольствий ради достижения своей цели: не воровать, не обманывать, не блудить. Нарушитель принятых обязательств должен быть очень жестоко наказан, но исключительно судом своих соратников. И это не случайно. Ниже мы еще вернемся к этой теме.
По дороге каликам встречается князь Владимир и так обращается к паломникам:
Князь Владимир демонстрирует по отношению к странникам непонятную на первый взгляд, высшую степень уважения, не просто приветствуя калик, но делая это спешившись.
Вспоминается, как Сигизмунд Герберштейн, дипломат Священной Римской Империи, в своих «Записках о Московии» хвастался, как ему удалось провести своего русского коллегу и хитростью добиться, чтобы московит, при встрече, первым сошёл с коня. И хотя те события произошли намного позже нашей истории, в XVI веке, однако, как известно, стереотипы поведения обладают высокой устойчивостью.
Почему же правитель Руси так поступил, не побоявшись «уронить» своё достоинство, при встрече, казалось бы, с обычными паломниками?
Потому, что это были не обычные странники. Описание их дорогой одежды, имен с отчествами некоторых из них в приветственном слове князя Владимира, а также упоминание певцом былины, что «раньше все они (калики) были сорок один богатырь, воевали, а потом пошли покаяться»10, говорит о том, что эти витязи в свое время были «княжими мужами» и принадлежали к княжеской дружине – опоре и надежде русских князей. А статус воина-дружинника на Руси был очень высок.
«Повесть временных лет», описывая ставшими легендарными пиры Владимира Красное Солнышко, один из которых, в честь крупной победы над печенегами, длился аж восемь дней, упоминает дружинный ропот на одном из таких мероприятий. «Силовики» правителя оказались недовольными деревянными ложками, захотев вместо них серебряные.
Услышав это, Владимир повелел сковать для дружины серебряные ложки, сказав так: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду и серебро и золото, как дед мой и отец мой доискались с дружиною золота и серебра»11.
Академик С. Ф. Платонов объяснял причину такого рода отношений между князем и обособленной военной корпорацией – дружиной – следующим образом: «Такой взгляд на дружину, как на нечто неподкупное, стоящее к князю в отношениях нравственного порядка, проходит через всю летопись. Дружина в древней Руси пользовалась большим влиянием на дела; она требовала, чтобы князь без неё ничего не предпринимал, и когда один молодой киевский князь решил поход, не посоветовавшись с ней, она отказала ему в помощи, а без неё не пошли с ним и союзники князя. Солидарность князя с дружиною вытекала из самых реальных жизненных условий, хотя и не определялась никаким законом. Дружина скрывалась за княжеским авторитетом, но она поддерживала его; князь с большой дружиной был силен, с малой – слаб»
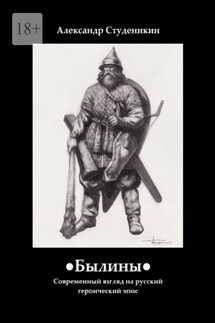

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



