Былины. Современный взгляд на русский героический эпос - страница 4
О таком отношении писал в своем стихотворении «Удалец» русский поэт Алексей Кольцов.
Ещё не доехав до калик, Добрыня сходит с коня и низко им кланяется: «Уж вы здравствуйте, удалы добры молодцы. Уж как все ли калики перехожие!».
После этого Добрыня спрашивает у калик, не попадалась ли им княжеская братина?
Обратите внимание, как максимально тактично поставлен вопрос. Смущенные калики проверяют свои дорожные сумы и у Михайло Михаиловича обнаруживают пропажу. Братина возвращается Добрыни, без каких-то криков, клятв, попыток объяснений. Можно предположить, что Добрыне было сказано, что они сами, «по-свойски», решат эту проблему, а Добрыня, также без лишних слов, отправился назад, пожелав богомольцам всех благ в их непростом пути.
Уважение, достоинство и такт, проявленные как Добрыней, так и каликами, привели к тому, что инцидент был исчерпан.
Для чего же было посылать «нестабильного» Алёшу, зная, что эту проблему может эффективно решить Добрыня? Можно не сомневаться, что в другой реальности, скажем так, «в обычной», к каликам был бы сразу отправлен именно Добрыня, однако эта часть былины с ситуациями «как не надо поступать» и, наоборот, «как поступать правильно», адресована слушателям, и носит педагогический характер.
Михайло Михайлович не стал оправдываться перед своими друзьями, он давал слово, знал, что не нарушил его, и считал ниже своего мужского достоинства что-то говорить сверх этого. Суд был кратким, приговор и его исполнение тоже не заставили себя ждать…
Выше уже нами упоминался суровый воинский обет, принятый на себя каликами, ограничивающий «плотские утехи» страхом мучительной смерти. Теперь обратим ваше внимание на нравственный облик казачества – субэтноса русского народа, как его описал Василий Сухоруков – Донской казак, историк Донского казачества, офицер и ветеран Русско-Персидской и Русско-Турецких войн XIX века, и привёдем довольно большую цитату из его труда: «Нравственность казаков представляла смесь добродетелей и пороков, свойственных людям, которые жили войною и грабежами. Жадные к добычам, свирепые в набегах на земли неприятельские, казаки в общежитии своем были привязаны друг к другу как братья, гнушались воровством между собою, но грабеж на стороне и особливо у неприятелей был для них вещью обыкновенною. Религию чтили свято. Трусов не терпели и вообще поставляли первейшими добродетелями целомудрие и храбрость. В наказания за преступления казаки были жестоки… Приговор и наказание совершались почти в одно время: это могло довольно успешно действовать на своевольство казаков, ибо каждый, осуждая своего товарища, знал, что никакие происки судопроизводства не избавят его от заслуженного наказания»16.
Интересная характеристика воинов, противоречивая, но настоящая, без примеси «лубка». По-моему, практически идентичная мотивам «Сорока калик со каликою».
Былина завершается чудом, и Михаил «становится в строй». Калики доходят до Святой Земли…
В XIX веке, в русском «образованном обществе», Пётр Чаадаев «громко» поставил проблему об исторической судьбе России, но ответы на эти вопросы уже были даны нашими русскими предками.
К сожалению, Чаадаев не встретился со своей «Ариной Родионовной», и не смог понять и оценить то сокровище русской культуры, в том числе выраженное в слове, с глубокими смыслами разных сторон человеческого бытия, которое его окружало.
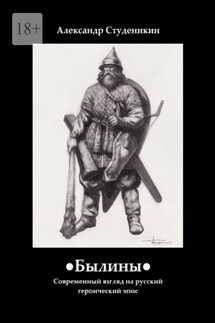

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



