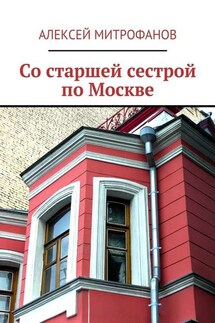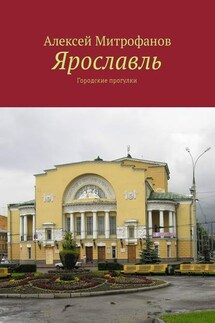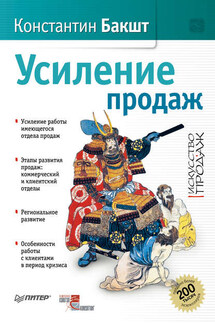Быт русской провинции - страница 70
Не удивительно, что вскоре Писемский покинул службу. Покинул не без сожаления. Писал: «принужден с моей семьей жить в захолустной деревнюшке в тесном холодном флигелишке; положим мне ничто: зачем не был подлецом чиновником, но чем же семья виновата?»
Но со своей совестью поделать ничего не мог.
Люди такого плана, разумеется, не приживались в мире госчиновников. Вот, например, как описывал некий калужский обыватель Гусев своего брата-чиновника: «Старший брат Коля учился в Уездном училище, где и кончил курс. Поступил на службу в Палату Гражданского Суда чиновником. Жалования он в то время получал, кажется, 10 р. В молодости имел характер веселый, живой, большой танцор. Он очень много читал и тем значительно развил себя. К службе, как видно, способен был, но, кажется, ленив, а особенно не сдержан на язык к старым начальникам, но в высшей степени справедлив и честен, что, конечно, не нравилось старшим, у которых взятки были на первом плане, а особенно в суде. Почерк он имел прекрасный, грамотно и хорошо составлял (а не переписывал) бумаги. За справедливость и честность его считали неуживчивым, а собственно, его боялись. Поэтому он, переходя с место на место, в конце концов совершенно бросил службу и занялся быть ходатаем по делам меньшей братии».
* * *
Гораздо проще было деятелям выборным. Особенно, если они из купечества, и при состоянии, гарантирующим независимость. Взять хотя бы уже упомянутого Андрея Александровича Титова, гласного думы Ростова Великого. Его речи в думе уникальны – и в отношении ораторского искусства, и в отношении гражданской позиции. Он, например, выступал перед гласными:
– Основание к учреждению родильного отделения, полагаю, для всех понятно: это – человеколюбие. Вероятно, до всех доходили рассказы ростовских врачей о том, что им нередко приходится бывать у бедных рожениц в таких помещениях, где зимою от холода, сырости, угара и разных испарений не только нет возможности поправиться больному, но очень легко и здоровому заболеть, и потому все высказанное мною заявление сделано с единственною целью – насколько возможно, избавить матерей от подобной участи, а детей спасти от преждевременной смерти.
Иной раз предложения Титова были вовсе неожиданными. К примеру, когда накопилась недоимка с горожан, лечившихся в земской больнице, но не расплатившихся, и дума размышляла, как бы эти деньги получить, он выступил с таким неординарным предложением:
– Городская дума заплатит всю недоимку… и кроме этого обяжется на будущее время уплачивать ежегодно за лечение несостоятельных мещан, не доводя управу ни до какого судебного процесса… Это будет по моему мнению… гораздо лучше и полезнее, чем вести долгий процесс, сорить деньги и все таки не быть уверенным, придется ли получить, или нет эту недоимку. Затем, господа гласные, я обращаюсь к нравственной стороне этого дела: те мещане, с которых следовало бы получить деньги, давно уже умерли, или ровно ничего не имеют, а потому приходится получить с людей, ни в чем не повинных, отнимать у них последнее жалкое имущество, продавать их бедные лачуги!
Любопытно, что такое неожиданное предложение было принято двадцатью семью голосами против двух – настолько мощной была сила убеждения Титова.
При всем при том, без стихотворных опусов он свою жизнь не мыслил. Мог, к примеру, шутки ради состряпать посвящение своему знакомому, некому Оскару Якимовичу Виверту: