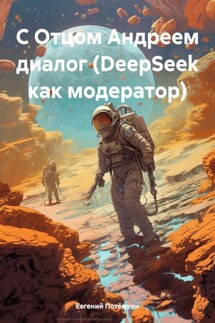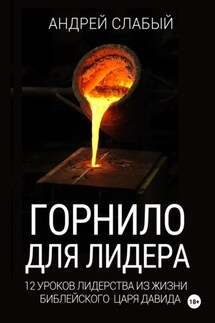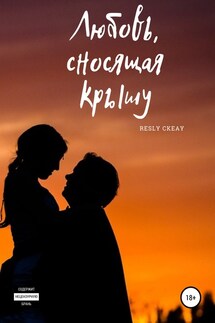Бытие как общение. Очерки о личности и Церкви - страница 20
Последнее высказывание подводит нас к чрезвычайно важному вопросу, которым мы должны незамедлительно задаться. Все, что до сих пор говорилось, не позволяет еще судить о том, что происходит с биологической ипостасью человека после того, как рождается ипостась церковная. Опыт подсказывает нам, что, несмотря на крещение и обретение церковной ипостаси, человек остается рожденным и умирающим по законам своей биологической ипостаси. В чем же состоит тогда опыт подлинной личностности, открывающийся в церковной ипостаси?
Для ответа нам необходимо привлечь новую онтологическую категорию – не для устранения установленного выше различия между биологической и церковной ипостасью, а для того, чтобы выразить их реальное соотношение. Их столкновение оборачивается парадоксом человеческого существования. Человек существует в своей церковной идентичности не таким, каков он уже есть, а каким еще только станет; его церковность связана с эсхатологией, т. е. с конечным результатом его жизни.
Это видение человека с точки зрения его «телоса» не связано с Аристотелевым представлением об энтелехии, т. е. с идеей потенции человеческой природы, которая позволяет ему стать лучше, совершеннее, чем сейчас[57]. Все, что здесь до сих пор говорилось, исключает возможность рассматривать личность как эманацию субстанции, или природы (и даже Самого Бога – как природу). Следовательно, и понимание церковной ипостаси, т. е. личности в собственном смысле слова, исключает ее трактовку как возможного результата биологической или исторической эволюции человеческого рода[58]. Положение, характеризующееся надеждой на обретение церковной идентичности в такой парадоксальной ипостаси, которая укоренена в будущем, а свои ветви раскинула в настоящем[59], вероятно, лучше всего можно было бы описать иной онтологической категорией, которую я назвал бы сакраментальной или евхаристической ипостасью.
3. Все, что мы представляли как отличие ипостаси церковной от биологической, в историческом и духовном отношении имеет одно прямое соответствие – святую Евхаристию. Преодоление онтологической необходимости и замкнутости биологической ипостаси составляет опыт, предполагаемый сутью Евхаристии, если, конечно, она понимается адекватно и просто, т. е. не так, как это встречается даже в православии под влиянием западной схоластики. Евхаристия – это прежде всего собрание (синаксис)