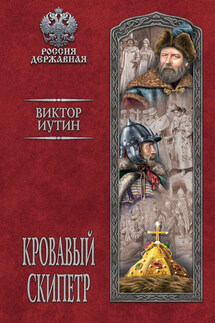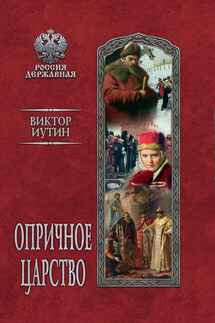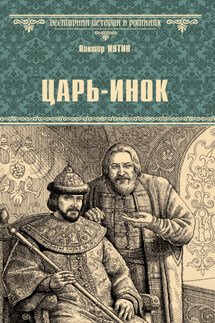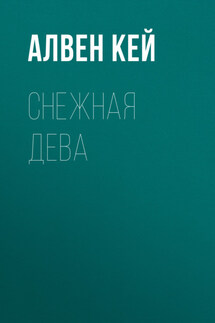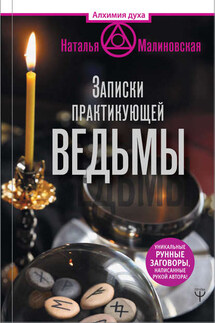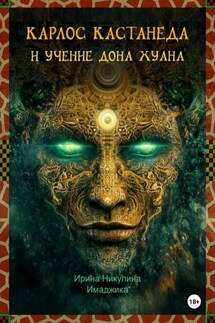Царь-инок - страница 6
И вновь грянул хор, и вновь ему кланяются в пояс, и вновь он выходит, осыпаемый золотыми монетами, из Успенского собора, слыша рев толпы и грохот пушек, и вновь, как и утром, он стоит у гробов отца и старшего брата в Архангельском соборе, но уже в венце и государевом наряде. И глядя на плиту, под которой покоится отец, Феодор, склонившись, вопрошает тихо:
– Почто, отче, обрек ты меня сим тяжким бременем? Не готов я был, не должен… Ты не хотел… и я не хочу…
Одним из первых самостоятельных решений государя Феодора Иоанновича было возрождение Зачатьевского монастыря в Москве. Основанный в XIV веке и уничтоженный пожаром 1547 года, он долгое время оставался скорее монашеской общиной, пока царь Феодор не выделил деньги из собственной казны для строительства нового собора монастыря, а это значило, что обитель получила возможность возродиться вновь. Покровительство государя монастырю, названному в честь Зачатия святой Анны, было не случайным – за десять лет брака Феодора и Ирины Господь так и не даровал им дитя. И потому на освящение обители митрополитом Дионисием они пришли оба, в сопровождении некоторых бояр и придворных.
Был здесь и Иван Петрович Шуйский, великий боярин и воевода, прославленный спаситель Пскова от польских войск, а ныне один из соправителей государя. Будучи псковским наместником, он далеко не сразу сумел прибыть в Москву и потому не застал смерти и похорон Иоанна, осады Кремля горожанами, выдворения Вельского.
И хоть родичи его получили в кормление новые города (Иван Петрович – Псков и Кинешму, а Василий Скопин-Шуйский – Каргополь, представители еще одной ветви Шуйских, братья Василий, Андрей и Дмитрий Ивановичи, удостоились получения обширных земель казненного в опричные годы родича, князя Горбатого-Шуйского) и сам он по роду своему был вторым в Боярской думе после князя Мстиславского, однако честь его была уязвлена тем, что власть захватили Захарьины и Годуновы. Ежели ещё с фигурой Никиты Романовича, коего князь сам безмерно уважал, он мог мириться, но с Годуновыми, коих при дворе тьма, целое засилье, – нет! Даже сейчас подле царя и Ирины (упорно не мог Иван Петрович заставить называть ее царицей!) родичей Бориса стояла целая толпа. Так же, как и в день венчания на царство Феодора, их было столько, что всех удостоили правом держать на руках государевы реликвии, в то время как из Шуйских лишь один, князь Василий Скопин-Шуйский, держал скипетр. Подачка, ничто иное, словно брошенная собаке кость! Ну нет, такого Иван Петрович простить не мог. Он стоял, опираясь на резной посох из рыбьего зуба, высокий, осанистый, дородный, весь в парче и бархате, в сапогах из цветной кожи – само олицетворение великой власти. Он был еще не стар, однако немного сдал в последние годы. Так на него повлияла смерть любимой супруги, что так и не смогла родить ему наследников.
Отчего-то нравился ему митрополит Дионисий, тоже еще далеко не старый муж, сановитый, величавый, знающий себе цену. Видимо, разглядел в нем князь родственную душу, уважал его за твердость духа, за начитанность и острый, великий ум, и уже сумел расположить его к себе дорогими подарками, до коих владыка был охоч. И теперь, когда служба была окончена и Дионисий благословил царскую семью, Иван Петрович двинулся с места, направляясь к митрополиту. Владыка благословил его, и они вместе, подле друг друга, пошли к ждущим их возкам – впереди был торжественный обед у государя. Князь любезно пригласил владыку в свой богатый возок, обитый изнутри бархатом и где подготовлено для путников было столь необходимое в жаркий летний день холодное питье.