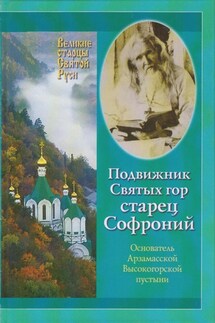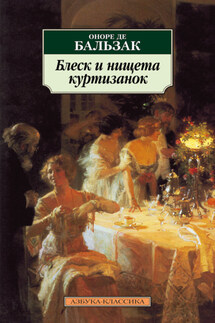Церковь в Империи. Очерки церковной истории эпохи Императора Николая II - страница 18
«Странно, конечно, чтобы религиозная реформа чуть было не попала в руки Витте и Кº, – отмечал в конце марта генерал А.А. Киреев, – но ведь Победоносцев не лучше! Дело в целом строе Церкви, а не в табели о рангах. Вероятно, патриарх будет причислен к 1-му классу, приравнен [к] фельдмаршалу и государственному канцлеру. Но ведь это не придаст ему силы и самостоятельности, а все дело в этом!» Все будет удачно, полагал Киреев, если «патриарху представится возможность рассчитывать на настоящую свободу Церкви». Но в том-то и было дело, что Победоносцев видел в стремлении провести церковную реформу прежде всего игру архиерейских честолюбий, подозревая их в желании обособиться от государства, введя в Православной Церкви патриаршество. Понимание канонической свободы было ему чуждо и, вероятно, просто непонятно, поскольку не укладывалось в рамки существовавшей в России модели государственно-церковных взаимоотношений.
Победоносцев уверял царя, будто Высочайшая резолюция от 31 марта, положенная императором на докладе Святейшего Синода, «сразу успокоила новую разраставшуюся смуту и подняла дух у многих людей, растерявшихся и в духовенстве, и во всех слоях общества, и в народе». Такой сугубо канцелярский подход к сложной проблеме весьма показателен: обер-прокурору казалось, что резолюция могла остановить неправильное течение церковной жизни! Разумеется, он считал необходимым приостановить и непосредственные контакты церковной иерархии с верховным носителем власти. Поэтому-то Победоносцев предложил Государю отменить прием митрополита Антония – «на некоторое время». Император и на этот раз послушался своего старого учителя: до мая митрополит Антоний не переступал порога царской резиденции. Считавший столичного архиерея «заговорщиком», обер-прокурор именно в нем видел олицетворение того вреда, который могла бы нанести союзу Церкви и государства реформа высшего церковного управления.
Тогда же Победоносцев перестал доверять и своему многолетнему товарищу В.К. Саблеру, поддержавшему в марте 1905 г. членов Святейшего Синода. Как вспоминал С.Ю. Витте, в результате поддержки решения Святейшего Синода о необходимости созыва Собора и учреждения патриаршества, Саблер «должен был оставить место товарища обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева, а митрополит Антоний впал в опалу со стороны всесильного обер-прокурора». После случившегося Саблер был конченным человеком в глазах чиновников ведомства православного исповедания. В ведомстве определенно говорили, что
Победоносцев, представляя императору доклад о его увольнении, дал бывшему заместителю «такую аттестацию, которая его окончательно похоронила».
Товарищ обер-прокурора покинул свой пост потому, что Победоносцев перестал видеть в нем своего единомышленника, перестал ему доверять, взяв заместителем князя А.А. Ширинского-Шихматова, которого сам же считал реакционером. Ширинский-Шихматов был товарищем Победоносцева вплоть до отставки последнего 19 октября 1905 г. В дальнейшем, правда на короткое время, с 26 апреля по 9 июля 1906 г., князь успел даже побывать в кресле главы ведомства православного исповедания, но окончательно оставил обер-прокуратуру после прихода к власти П.А. Столыпина.
Важно также отметить, что, оценивая события весны 1905 г., современники усматривали в «победе» обер-прокурора над «Антонием-Витте» не только отмену готовившихся реформ. Так, А.А. Киреев увидел в высочайшей резолюции от 31 марта и не указанное императором «благоприятное» для созыва Собора время. По мнению генерала, Государь отстранил его созыв «до окончания [русско-японской] войны». Более того, писал Киреев, если Святейший Синод говорил о съезде иерархов, то Государь – о Соборе русской Церкви.