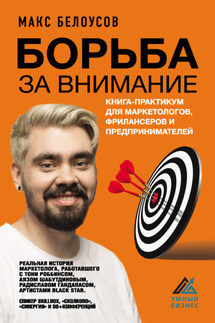Чабанка - страница 27
Мне везло в жизни на встречи с такими людьми, как Александра Саввична. Каждый призыв попадая в больницу по направлению военкоматовской комиссии, я знакомился с очень интересными людьми. Помню парня, который удивил меня положительным ответом на вопрос играет ли он в преферанс, очень уж его облик не вязался с этой игрой. Он держал ложку плотно в кулаке и громко щербал суп в убогой больничной столовке. На перекуре он признался, что закончил филфак, а это так – мимикрия.
– Филологический?
– Нет, филосовский.
Философы были большой редкостью, для нас это были люди с другой планеты.
Он занимался профессионально религией, отвечал, в горкоме кажется, за киевских сектантов. Я в то время очень увлекался религией, историей христианства, почитывал запрещенку. Он меня познакомил с абсолютно запрещенной и неожиданной литературой по теме «Нацизм и буддизм». Он же мне скормил со своих рук и «Степного волка» Германа Гессе.
Потом был Дмитриевич. Он был парализован, мы с ним лежали в двухместной палате ветеранов ВОВ>39, почти класса люкс. В нормальной десятиместной палате для меня не нашлось места. В ветеранской я был бесправным, он же лежал по особому праву, он был доктором наук, биологом. Как рассказывал Дмитриевич, в свое время он был самым молодым доктором наук Киевского университета. Я его помню дряхлым стариком после инсульта, хотя ему было тогда только сорок семь лет. До сих пор виню себя в том, что, возможно, и я ускорил его смерть – умер он при мне, спустя неделю, как мы познакомились. До самой смерти он сохранял ясный ум, но почти не двигался. Я, шалопай, полночи пропадал то за игрой в карты в процедурной, то с медсестрами в ординаторской. Нас, военкоматовских, от больных отличало то, что мы были здоровыми и молодыми, а поэтому могли и ночное время медсестрам скрасить и помочь, если там надо, труп, к примеру, в морг отвезти. Делалось это по ночам и полагался за это спирт, руки, типа, протереть. Дмитриевич никогда не засыпал, он ждал меня, может он предчувствовал свой скорый конец, он нуждался в слушателе, даже, я бы сказал, в ученике. К нему приходил сын, но контакта между ними я не видел – проблема отцов и детей. Я был хорошим слушателем и учеником, мы много беседовали о настоящих и мнимых ценностях, о проблемах национального вопроса. К моему удивлению он читал то же, что и я, мы могли спорить с ним о смысле прозы Стругацких, чего я не мог делать со своим отцом – он не читал фантастики. Может, в том числе, и эти ночные перегрузки привели его сердце к обширному инфаркту. С парализованными так, говорят, часто бывает, малоподвижность приводит к ослаблению всех мышц, в том числе и сердца. Прости меня, Господи, наверное, я виновен, но в то же время, ведь он меня ждал, он ждал моего прихода, он очень хотел иметь собеседника и он его имел. Каждую ночь, уже до самого утра, и до самого конца.
В больнице я познакомился с Димой. Дима был внуком большой шишки, чуть ли не бывшего министра МВД Украины и поэтому ничего не боялся. Отрицая советский строй, он нигде не работал, очень странно одевался, его не интересовало, как он выглядит, он жил в другом, лично своем, внутреннем мире. Дима был увлечен поэзией, только через чувство поэтической строчки можно понять прозу, считал он. Диме я благодарен за знакомство с Ахматовой и Цветаевой, с Пастернаком-поэтом, а также за «Защиту Лужина» Набокова и «Соленый лед» Виктора Конецкого. За то, что он в моей собственной библиотеке в дурацком лениздатовском сборнике советских писателей нашел «Конармию» Бабеля, а особенно за моего до сих пор самого любимого поэта, за Николая Гумилева. Гумилев тоже был запрещен, тогда говорили, что он был расстрелян по личному приказу Ленина. Его имя пытались стереть из человеческой памяти.