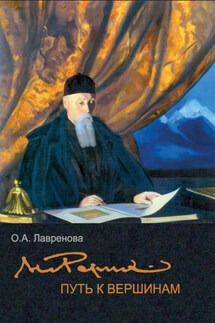Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии - страница 38
Госпиталь, в котором царила атмосфера страданий и смерти, находился меньше чем в километре от дома Моне. Жители Живерни жертвовали заведению белье и матрасы, Моне тоже внес свою лепту: раненые и контуженые солдаты питались овощами из его сада. Если точнее, то горох и бобы росли не в той знаменитой части на территории фермы «Прессуар» – ботва овощных культур мало привлекала художника, – а в огороде, который его садовники разбили на участке, арендованном по соседству вместе с так называемым «Синим домом». Из-за войны сады Моне постепенно зарастали, поскольку многие садовники отправились на фронт. «У нас все благополучно, по-прежнему приходят хорошие вести о тех, кто нам дорог, – писал Моне Жозефу Дюран-Рюэлю, сыну продавца его картин, – но живем мы в постоянных волнениях и тревогах».[289]
В начале июля, ощутив душевный подъем, Моне сообщил Гюставу Жеффруа, что «берется за грандиозный труд».[290] Теперь же, в первые страшные недели военного конфликта, когда под ружье встали Жан-Пьер и Альбер Салеру, муж его падчерицы Жермены, мысли об этом труде отошли на второй план. «Будь храбрым, но осторожным, – писал художник Жан-Пьеру, – и знай, что ты всегда в моем сердце».[291] Второй его сын, Мишель, не был допущен к службе по состоянию здоровья, вероятно из-за операции, которую он перенес за несколько месяцев до этого, или из-за старой травмы – перелома бедренной кости, полученного в 1902 году, когда он разбил свой автомобиль в Верноне.[292] Тем не менее он еще раз попытается пойти добровольцем. Волновался Моне и за своих друзей. Он отправлял телеграммы, чтобы хоть что-то узнать о Саша и Шарлотте, пытался разыскать Октава Мирбо и в письмах в Париж справлялся о Ренуаре, проводившем на фронт двоих сыновей.[293]
Беспокоился Моне и о судьбе своих картин. Враг стоял меньше чем в пятидесяти километрах от Парижа, аэропланы бомбили столицу и сбрасывали мешки с песком, к которым крепили листовки, сообщавшие, что скоро в городе будут германские войска; мэтр боялся, что его холсты попадут в руки гуннов, и наверняка помнил, как в 1870 году были уничтожены многие произведения Камиля Писсарро: в доме художника в Лувесьене пруссаки устроили мясную лавку, а холстами застилали пол. В последний день августа в письме Жозефу Дюран-Рюэлю Моне спрашивал, нет ли у него на примете «надежного места», где можно было бы разместить «часть картин…», и подсказывал: «Вдруг вы найдете возможность арендовать автомобиль с надежным водителем, который увез бы все, что удастся погрузить».[294] Если бы это получилось, холсты Моне, как и сокровища Лувра, присоединились бы к массовому исходу.
Но автомобиль из Парижа за картинами не приехал, зато вскоре из своего дома в Шевершмоне, в сорока километрах выше по реке от Живерни, прикатил Октав Мирбо. Не многим посетителям здесь бывали столь же безмерно рады, особенно в такое смутное время. Мирбо, несомненно, был искренен, когда писал Моне: «Вы самый дорогой мне человек на свете».[295] Их взаимная привязанность казалась трогательной Саша Гитри: «Не было ничего прекраснее этого блеска в глазах, когда они переглядывались».[296]
Их дружба началась больше тридцати лет назад: в 1880-х годах Мирбо опубликовал первые восторженные строки, посвященные живописи Моне. Как рассказывает Гитри, тогда этот, быть может, самый проницательный и умеющий предельно ясно выразить свои мысли критик навлек на себя гнев всего Парижа, осмелившись раньше всех отдать должное Моне, Сезанну и Вон Гогу.