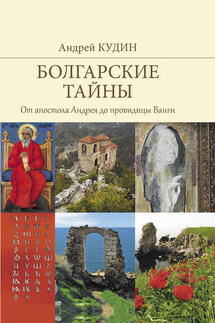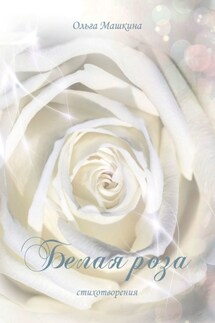Частные предприятия в Китае: политика и экономика. Ретроспективный анализ развития в 1980-2010-е годы - страница 18
В то же время «на протяжении известного отрезка времени государству еще нужно будет осуществлять непосредственный контроль над крайне незначительным числом ведущих строек и особого рода предприятий, над некоторыми важнейшими видами дифференцированных товаров, полностью учитывая при этом соотношения интересов различных сторон и совершенствуя методы контроля. Нужно осуществлять необходимый надзор и управление в отношении предприятий, рынка и хозяйственных ведомств, упорядочивать и укреплять финансовую дисциплину в целях охраны законных прав и интересов потребителей и производителей, интересов всего государства в целом». Как итог подобных утверждений подчеркивалось, что «механизм социалистического планового товарного хозяйства должен воплощать в себе органическое единство планирования и рынка»[13].
На третьем этапе дискуссий, начало которому положили известные политические события мая – июня 1989 г.[14], последовал определенный «откат влево»: вплоть до выдвижения в официальных китайских документах тезиса о «неприемлемости для Китая рыночной экономики в чистом виде» и признания несостоятельности теории «всемогущества рынка», нашедшей поддержку в период студенческих волнений; вновь стал подчеркиваться «плановый характер» экономики при социализме; критиковалась и выдвинутая XIII съездом формула (см. выше) как якобы модель рыночной экономики, в которой не уделяется места планированию.
Официальная же позиция руководства КНР по вопросу о соотношении плана и рынка, однако, носила в целом компромиссный характер и была сформулирована Цзян Цзэминем осенью 1989 г. как принцип «сочетания плановой экономики и рыночного регулирования»[15]. Тем не менее, как показала состоявшаяся в октябре 1990 г. в Пекине конференция по проблемам теории социалистической экономики, далеко не все ведущие экономисты Китая в тот период были согласны с данным принципом, поскольку считали «плановую экономику» и «рыночное регулирование» понятиями «асимметричными» и «разноуровневыми».
Так, известный китайский ученый Ли Инин высказывался тогда за то, что отношения между двумя способами регулирования должны строиться путем установления своего рода «контрольной линии»: когда определенные показатели экономической деятельности не превышают уровня такой «линии», используется рыночное регулирование; если же показатели выходят за «контрольную линию», то регулирующую роль должно играть государство (Цит. по [67, с. 105]).
Дискуссии о плане и рынке, проходившие в КНР на рубеже 1990-х гг., наряду с объективными внутренними и внешними факторами, такими как стабилизация положения в экономике КНР, с одной стороны, и распад СССР – с другой, по сути во многом подготовили почву для радикализации рыночных преобразований, де-факто провозглашенной Дэн Сяопином в январе 1992 г. В свою очередь, инициатива «архитектора китайских реформ» способствовала новой активизации дискуссий. Так, при разработке проблемы соотношения плана и рынка ученые КНР стали использовать указание Дэн Сяопина о том, что плановую экономику не следует отождествлять с социализмом, а рыночную – с капитализмом, поскольку план и рынок являются лишь двумя различными способами размещения ресурсов, равно допустимыми как при капитализме, так и при социализме.
«Плановая экономика, – констатировал в этой связи Дэн Сяопин, – не равняется социализму, так как при капитализме тоже есть планирование, а рыночная экономика не равняется капитализму, так как при социализме тоже есть рынок», «несколько большее использование планирования либо рынка не служит существенным различием между социализмом и капитализмом». Поэтому необходимо «прекратить споры о «измах» и смело заимствовать и изучать передовые методы хозяйствования и управления, которые имеются за рубежом, в том числе и у развитых капиталистических стран, ибо они отражают общие законы общественного производства и хозяйства». Общий вывод Дэн Сяопина весьма образно, но однозначно ставил точки над «i» в вопросе о социально-экономических приоритетах китайских реформ: «Не важно, какая кошка – черная или белая, лишь бы она ловила мышей…» [6, с. 145].