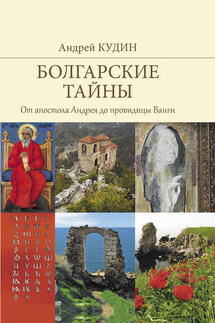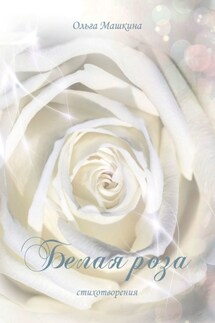Частные предприятия в Китае: политика и экономика. Ретроспективный анализ развития в 1980-2010-е годы - страница 23
Подобные общие утверждения, на наш взгляд, имеют односторонне монетаристские, а не кейнсианские идейно-теоретические «корни», опираются более на практику изучения развитых стран Запада, а не стран с формирующимися рынками, включая развивающиеся и переходные экономики Востока, в том числе экономику КНР.
Действительно, еще в 1990-е гг. российскими китаеведами, в частности В.В. Карлусовым, было показано, что «эволюционное разгосударствление отношений собственности, как свидетельствует реформенная практика КНР и Тайваня, отнюдь не равнозначно какому-либо принципиальному ослаблению общей экономической роли государства. Меняя приоритеты целеполагания, последнее, однако, не только не утрачивает, но и по ряду позиций и параметров в обновленном виде усиливает (выделено нами. – А. К.) некоторые из своих традиционных и приобретает ряд новых функций в качестве:
– инициатора системно-рыночной модернизации экономики и всего общества;
– создателя базовых условий развития переходного процесса (основ рыночной инфраструктуры, соответствующей правовой базы, благоприятного инвестиционного климата, сильного мотивационного механизма предпринимательства и т. д.);
– эффективного субъекта экономического макрорегулирования и соответствующих развитию рыночной экономики структурных хозяйственных преобразований;
– политико-правового, институционального и организационно-экономического гаранта нормального функционирования всей многоуровневой, многоукладной национальной экономики, общественного производства в целом;
– гаранта социально-политической и морально-нравственной стабильности общества, а также четкой социальной ориентированности процесса формирования рыночной экономики» [72, с. 83; 77, с. 70–71].
Оперируя более поздней фактологией, основанной на статистике 2000-х гг., автор настоящих строк с полной уверенностью констатировал, что «с развитием реформенного процесса роль государства в экономике КНР отнюдь не уменьшается. Изменяются лишь цели, масштабы и формы государственного вмешательства в экономику. Государство использует рычаги своего прямого и косвенного воздействия на экономику прежде всего для создания благоприятных условий быстрого и устойчивого экономического роста, продолжения рыночного реформирования национального хозяйства и его оптимальной интеграции в мировую экономику. Важнейшие современные задачи регулирования национального предпринимательства в глобализирующемся Китае – продолжение догоняющего развития КНР на базе ускоренной индустриализации и информатизации экономики, переход от экстенсивной, ресурсозатратной модели экономического роста к интенсивной, ресурсосберегающей, к сбалансированному развитию экономики и социальной сферы, человека и природы, к высоким технологиям, основанным на собственных, национальных инновациях» [97, с. 49].
Неудивительно, что подчеркивая важную роль государства в регулировании развивающейся рыночной экономики в современном Китае, Вэнь Цзябао, в частности, говорил о «необходимости и впредь обеспечивать органическое единство правительственного контроля и рыночного механизма. Как наиболее здоровый рыночный механизм, так и эффективный макроконтроль – жизненно важные составляющие системы социалистической рыночной экономики. Чью роль выявлять больше – рынка или правительства, необходимо решать с учетом конкретной ситуации»