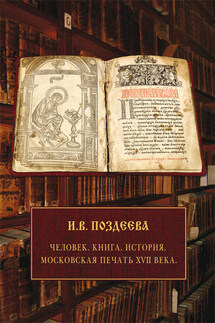Человек книги. Записки главного редактора - страница 7
Конечно, женщины-гостьи старались ей помогать. Не был в стороне и папа: он охотно ходил на базар (запорожский рынок) то сам, то вместе с мамой и помогал закупать провизию на всю ораву. Но основная тяжесть падала на маму. Зато и гости любили посещать наш дом.
Кулинар мама была, на мой вкус, превосходный. Особенно удавались ей вареники с вишнями, любимое мое блюдо. Фирменными блюдами были также куриный бульон с клецками и так называемые снежки – на секунду опущенные в кипящее молоко ложечки взбитого яичного белка, которые превращались в воздушные белые комочки, действительно напоминавшие снежки. Их помещали в блюдечко с вкуснейшим кремом из желтка. Это было лакомое праздничное блюдо, которое я иногда вымаливал маму сделать и без всякого повода.
Вареники с вишнями в необыкновенно вкусном вишневом сиропе я обожал. Мама, зная это, обязательно отмечала каждый мой приезд в отпуск из Москвы обедом с варениками с вишнями.
За свою любовь к этим вареникам я однажды в детстве жестоко поплатился. Мы с братом Лёсиком поспорили, кто их больше съест. Я победил, проглотив, кажется, пятьдесят вареников. Победа, правда, вышла боком. Триумфатором мне себя почувствовать не пришлось: с последним, пятидесятым вареником у меня начались рези в животе и, к моему ужасу и позору, мама уложила меня на диван, на котором я сидел за обедом, и сделала клизму. Все обошлось, но чувство стыда осталось на всю жизнь.
В самые торжественные дни мама даже делала домашнее мороженое. В бидоне-мороженице после ручного взбивания оно опускалось в погреб, где сохранялось до пиршества. Мороженое это все же уступало тому, которым торговали на улице и в кафе: оно получалось крупнозернистым.
Раздумываю сейчас, почему мама не бросила работу, когда в этом уже не было необходимости. Ведь когда папа стал заниматься частной практикой, он, вероятно, мог вполне прокормить семью и сам. Причина, думаю, самая простая: она была хорошей акушеркой, работу свою любила и испытывала в ней потребность. Такой вывод я делаю не только на основе абстрактных рассуждений, но и опираясь на собственные домашние наблюдения. Могу смело утверждать, что все, кто сталкивался с мамой, кто жил с ней рядом, не могли не полюбить ее.
Папа
Как ни странно, я мало могу написать о нем. Возвращаясь к прошлому, я с ужасом замечаю, что плохо знал отца. Наверно, это объясняется тем, что ему несвойственно было делиться воспоминаниями о собственной жизни, родителях, братьях и сестрах, детстве, юности, обучении специальности, участии в Первой мировой войне, долгом пребывании в немецком плену, женитьбе, наконец. О многом он мог бы рассказать. Я же до Великой Отечественной войны, увы, не испытывал потребности обо всем этом узнать. К тому же папа держал себя от меня на расстоянии. Он был суровым, молчаливым, много работал, свободного времени у него оставалось очень мало. Проявлений чувств, «телячьих нежностей», как он выражался, он не терпел. После войны было как-то не до расспросов о прошлом, да и его характер сдерживал желание задавать ему вопросы. Так я и не узнал многое из того, что хотел бы знать.
Мне трудно определить папины интересы. Не ведаю я, что он думал по тому или иному поводу. Дома мы встречались только за обеденным столом. Он был неразговорчив, суров, а со мной если и говорил, то лишь по пустякам. Я побаивался его.
Как я казню себя теперь за то, что был нелюбопытным, не пытался его разговорить тогда, когда мы во время войны много времени провели вдвоем. Вместе вышли из Запорожья пешком, когда немцы заняли правый берег Днепра перед плотиной Днепрогэса, вместе ехали из Орехова до Ростова, а затем он навещал меня в Пятигорской больнице. Впрочем, обстановка не слишком располагала к беседам такого рода. Но, например, вполне удобный случай представился позже. Добившись разрешения на мой перевод из госпиталя в Армении в госпиталь в поселке Двигательстрой, где они с мамой в то время нашли себе работу, он приехал за мной. Мы вместе отправились в довольно долгий и сложный путь, и обстановка не так уж и препятствовала расспросам, но мы упорно молчали, ехали, почти не разговаривая.