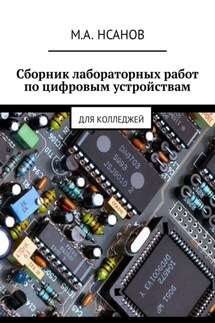Черное озеро - страница 6
Слова Милена звучали со странной смесью восторга и горечи, будто он не мог не восхищаться масштабом загадки, но ее человеческий аспект причинял ему искреннюю боль.
Герман нахмурился:
– И в каком году это поселение опустело?
– Примерно в тысяча девятисотом.
– Есть идеи, что произошло?
Милен вздохнул:
– Пока рабочая версия, что по какой-то неизвестной нам причине им пришлось скоропостижно покинуть это место и перекочевать на другое, безопасное, – голос Милена был полон сомнения и одновременно энтузиазма. – Как раз сегодня у меня состоялась встреча с коллегой из Благовещенска. Добрый человек, разрешил взглянуть одним глазом на свои еще неопубликованные труды. Он изучает заброшенные и умирающие деревни Амурской области. Я надеялся найти какие-то параллели со своими кочевниками.
Герман почувствовал, что разговор затягивает его все глубже. Загадка становилась более витиеватой, а ее связь с текущим расследованием – все более тревожной.
– Ты думал, что они ушли еще восточнее? – уточнил он, чуть наклонившись вперед, словно это могло помочь схватить мысль Милена до того, как она сорвется с его языка.
– Предполагал, – ответил археолог, немного замедлив речь, будто взвешивая слова. – Но никаких сходств не нашел.
– Еще версии?
– Смертельная лихорадка. Но в прошлом году мы обнаружили их переносное кладбище. Последнее захоронение датируется 1884 годом. Не сходится.
– Стоп! – Чернов опешил. – Что значит «переносное кладбище»?
– Они кочевали вместе с прахом предков, с одного поселения на другое, начиная, предположительно, с двенадцатого века.
Поймав заинтересованный взгляд журналиста, он продолжил:
– Обряд, вероятно, был следующим: рядом с местом, где у них проводилась тризна, выкапывалась огромная яма, куда складывали сосуды с прахом. Потом ее закрывали дощатым настилом, а поверх высаживали прострел. Ну, или, как в народе говорят, сон-траву. В их ранних поселениях подобные ямы тоже находили, но пустыми.
Герман нахмурился еще сильнее. В голове выстраивалась цепочка, но звеньев в ней пока не хватало.
– С двенадцатого века? – переспросил он, с сомнением уставившись на Вербицкого. – Сколько сосудов вы нашли?
Их разговор прервал звук входящего сообщения. Милен вынул телефон из кармана и открыл мессенджер.
– Прости, пожалуйста, это по работе, срочно. Нужно ответить, пока связь ловит.
– Конечно, нет проблем.
Ученый отвлекся на телефон, а Герман, озадаченный услышанным, уставился на дорогу. По обе стороны от нее потянулись полосы смешанного леса, местами болота. Указатели с названиями близлежащих сел и деревень попадались все реже, а значит, они все дальше удалялись от цивилизации.
Через несколько минут Милен недовольно фыркнул и спрятал телефон.
– Глухая зона. Теперь до переправы ждать.
– Все в порядке? – участливо поинтересовался Чернов.
– В абсолютном. Просто не успел отправить сообщение. Так о чем это мы?..
Герман, почувствовав на себе взгляд ученого, вежливо напомнил:
– Переносное кладбище.
– Ах да… Давай так. Чтобы полнее обрисовать картину, зайдем с другого бока, – быстро включился Милен. – В первую очередь, это не история поселения как такового, а история одного рода. Самое удивительное и ценное из всех памятников, что они нам оставили, – это их родовое древо. Его высекали на каменной плите возле печи в избе старейшины.
– Родовое древо? – Герман приподнял бровь.
– Да, именно так, – Милен слегка оживился. – В ранних поселениях эти летописи почти не сохранились, они нечитаемы, только отдельные фрагменты. Но этих крупиц оказалось недостаточно для понимания. И только в предыдущем поселении стало ясно, что это такое. Их род брал начало от некоего Звяги, он же – Ведагор из Ладоги – и продолжался вплоть до исчезнувшего поколения.