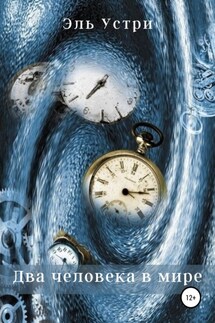Черновики Иерусалима - страница 28
Последнее впечатление, которое я возьму с собой отсюда, весьма забавного свойства. Оно навело меня на мысль, которая, как мне кажется, может показаться Вам любопытной. Есть прогресс и есть, однако, явления и образы, которые кочуют с места на место и из века в век почти неизменными. Вчера я смотрел представление старого театра Карагеза в Фенере. С живым удовольствием наблюдая за проделками этого носатого человечка, я вдруг понял, что это наш общий предок, появляющийся во всех землях и среди всех народов под именами Карагеорги, Панча, Пульчинеллы-Полишинеля, Каспара и многих других (я, увы, не большой знаток этнографии, но чутье и логика подсказывают мне, что он распространен повсюду). Это – вечный жид, неунывающий и дразнящий судьбу. В Салониках, когда я был мальчишкой лет пяти, я увидел его однажды поднимающимся со стороны моря по крутому подъему улицы. Мой дедушка, который шел рядом, держа меня за руку, страшно разволновался – на какой-то миг он принял его за самого Спасителя Шабтая Цви, снова явившегося в мир. Старые люди постоянно начеку в ожидании перемен.
Жив ли еще Иегуда Проспер Луриа, бывший консул испанского королевства? Если Вы его встретите, передайте сердечный привет от капрала, ставшего консулом бывшей империи.
Надеюсь, британский цензор пропустит к Вам это письмо.
Прошу Вас, сэр, не чините препятствий беседе двух старых друзей! (фраза написана по-английски)
Искренне Ваш Мустафа Кемаль.
В те годы, когда мне рисовался образ человека, вышедшего из больницы и потерявшего представление о времени и месте, а также о собственном имени, титуле, семейном положении и социальном статусе, он являлся мне носатым существом, связанным с миром кукол, путешественником, постоянно пребывающим в неладах с бумагами и документами, теряющим подорожную, путевые записки (в которых он выказал столько недюжинного таланта!), пачпорт, рекомендательные письма и всё прочее. Нос его при этом не имел ничего общего с учительской указкой Пиноккио и с фаллическим биллиардным кием Буратино, но тяготел к иронично-двусмысленному клюву капитана Панталоне или фатальному – Дотторе. При этом фигура жертвы амнезии накладывалась на образ мудрого проводника-затейника, ненавязчиво заставляющего душу, сошедшую в мир иной, заблудиться и затеряться в его непростой топографии и топонимике.
Я жил тогда в Ленинграде, на углу проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы, о которой навигаторам и землепроходцам известно следующее:
Бассейная улица – проходит в Московском районе Санкт-Петербурга от Кубинской улицы до Витебского проспекта. Начало застройки улицы, как и всего близлежащего района относится к 50-м годам XX века. Название улица получила 14 июля 1954 года по планируемому Южному Обводному каналу (бассейну). Канал должен был проходить от Невы, южнее Володарского моста до Финского залива у Морского торгового порта, а новая улица прокладывалась в направлении будущего канала. До 1918 года в Петербурге-Петрограде Бассейной улицей была другая – нынешняя улица Некрасова. Именно на ней жил «человек рассеянный» из стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Вот какой рассеянный» (1928).
Общественный транспорт: Автобус социальный, № 63, 72. Троллейбус № 24, 26.
Достопримечательности: На углу с Московским проспектом находится так называемый «Генеральский дом» – башня со шпилем – памятник архитектуры (вновь выявленный объект) (д. 41/190). Здание планировали построить в 1940-1941 годах по проекту архитекторов Б. Р. Рубаненко, Г. А. Симонова, О. И. Гурьева, С. В. Васильковского и Л. М. Хидекеля и до войны был завершен основной корпус со стороны Московского проспекта. Башня на углу Бассейной была построена уже после войны. На Московском проспекте, напротив парка Победы у Бассейной улицы, в 1998 году было построено новое здание Российской национальной (бывшей Публичной) библиотеки. В нём разместились студенческие залы. Вход в здание украшен скульптурами «Правосудие», «Религия», «Театр», «Архитектура», «Механика», «Медицина», «Воздухоплавание», «Виноделие», «Философия», «Музыка», выполненными скульпторами Б. А. Свининым и А. Мурзиным (учеником Свинина).