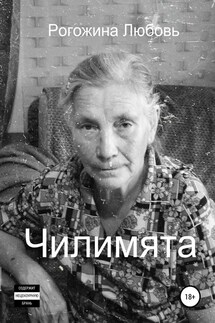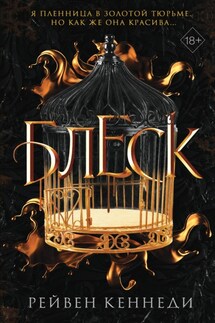Чилимята - страница 7
– На Ивана похож? Что-то, конечно, есть, братья все же… Но у Ивана лицо – решительное, взгляд – смелый, открытый, одно слово – «народная красавица». У Феди совсем не то: какая-то обреченность, беспомощность во взгляде. И однажды в церкви у иконы с изображением страдающего Христа вдруг поняла, на кого похож сын… И ахнула… И всегда, до конца своей жизни, просила Анна всех своих детей «не бросать Федю», «помогать Феде», а затем и его семье…
В 1943 году Федька пошел в школу, и тут еще одна неприятность ждала Анну: он проходил в первый класс два года, и так и не смог освоить программу первого класса. Когда Федька понял, что не может он освоить школьную премудрость, не складываются у него отдельные буквы в слова, а слова в предложения, вообще, забросил школу.
И так и остался на всю жизнь неграмотным в стране всеобщей грамотности. Зато любил он ходить на скотный двор, беседовать там со скотниками, пастухам помогал, знал клички всех коров в деревне. Да не просто клички знал, знал и характер каждой, ее повадки, знал с детства, где, на каких пастбищах, в какое время года надо пасти стадо. Поэтому и заслужил прозвище «пастух».
После войны эта любовь к животным, к неприхотливому крестьянскому труду сослужила хорошую службу Федьке. Много лет подряд нанимала его деревня пастухом для стада личных коров. Кто жил в деревне, тот знает: на эту должность абы кого не выберут – корова здесь для всех семей главная кормилица. И хоть посмеяться над пастухом, который умеет лишь коровам «хвосты крутить», желающих всегда хватает, настоящих пастухов в деревне ценят. Знали в деревне: пока пасет стадо Федька-чилименок, все в стаде будет в порядке. Да и не только пасти коров, любой крестьянский труд был Федору не в тягость, а в радость. А как сено косил… Казалось бы, откуда силе браться? А вот, поди-ка, управлялся не хуже других… Невысокий, шустрый, он косил как бы не косой, а всем телом… И трава ложилась под ноги Федора, шурша ему что-то невнятное…
Жену Федору тоже помогла выбрать мать: сноха Мария была неутомима в крестьянском труде, нескандальна в жизни, и также, как и Федор, не одолела первого класса школы. В городе Федор был один только раз: ездил вместе с матерью хоронить тетку к Мане, сестре, на Урал. Анна осталась погостить у дочери после похорон, а Федора проводили одного, купив ему билет и снабдив продуктами на дорогу. Он умудрился потеряться с билетом в кармане, затем кое-как добрался до дома, не без помощи добрых людей. Все чилимята свято выполняли просьбу матери: не оставляли его одного, без помощи. Задумал Федор строить новый дом вместо старого, отцовского – помогали все. Сестра Маня высылала посылками гвозди, рукавицы, скобы, краску для стройки; братья Иван и Михаил (самый младший) приезжали и по-могали строить, сестра Лиза и няня помогали, как говорили в деревне, «и сырым, и вареным». Анна могла бы доживать с любым из своих детей, все ее звали, но она жила с семьей Феди, помогла ему вырастить троих детей: двух сынов и дочку. Дом Федя выстроил на зависть всем; гордо, на высоком фундаменте, сиял стеклами окон большой пятистенок, срубленный из лиственницы. Анна все смотрела, щуря блеклые глаза, на дом сына, радовалась, смахивала слезы:
– Вот отец-то не дожил до радости-то такой…
Казалось бы, живи, радуйся, Федька… Но не тут-то было.
В 1960–1970-е годы в деревне процветало самогоноварение. Гнали самогон из зерна, был он похож на чуть-чуть забеленную молоком водичку, крепость его была невелика. Зато сивушный запах от самогона валил с ног. Чтобы напиться допьяна таким напитком, пили его большими стаканами. Что уж говорить, почки у колхозников без работы не оставались – сколько жидкости надо перекачать! Ни одно застолье в деревне, ни одна свадьба, ни одни проводы в армию или на пенсию не обходились без первача, как ласково называли его в деревне. Да и где было колхозникам брать денег на водку? Оплата трудодней осуществлялась сельхозпродуктами. Если что-то заработал в частном хозяйстве – кроме того, что надо есть, надо же еще и одевать детей, учить их и прочее. Борьба же с самогоноварением осуществлялась только на словах. Гнали, ни от кого особо не скрываясь. Пили все, и это не считалось чем-то позорным или страшным. Наоборот, это стало, чуть ли не поводом похвалиться перед соседями своим «геройством». Наиболее дальновидные люди в деревне отправляли подрастающих детей в город: учиться, работать, лишь бы не спиваться в деревне. Рассуждали: