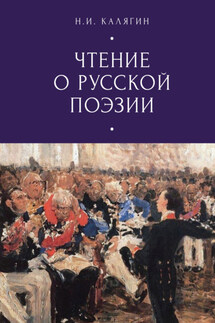Чтения о русской поэзии - страница 14
Школьная поэзия, искусственная.
Какое-то действительно «нашествие иноплеменных», какие-то марсиане из романа Уэллса, ничем не связанные с народной жизнью, историей, судьбой – просветители, одним словом. Именно с них начинается грустная история русского западничества, и уж как они хлопочут, как стараются, выражаясь современным языком, «быть на уровне мировой науки» – и как безнадежно промахиваются уже в выборе цели: держат равнение на западную схоластическую науку, пораженную Декартом насмерть. Бедные, бедные просветители… Теперь на ближайшие триста лет определился их удел: гнаться за вчерашним западным просвещением, все больше отчуждаясь от своего народа и ни на шаг не приближаясь к истинному, то есть завтрашнему, западному просвещению.
А тем временем в прозе расцветает бытовая повесть, творит протопоп Аввакум – в поэзии же все застилает этот ложный блеск, все заслоняют эти бумажные цветы. Приходится определять силлабическую поэзию как псевдоморфозу русской литературы.
Интересный факт: старообрядцы, отступившие под натиском просвещенства в скиты, в глухие леса, дали на исходе петровской эпохи высшие, может быть, образцы русской силлабики. В старообрядческом монастыре на реке Выге (это Олонецкая губерния) завелась при братьях Денисовых крупная книгописная мастерская, библиотека, свои школы – здесь был создан центр раскольничьего просвещения на русском Севере. А Андрей Денисов, из песни слова не выкинешь, тоже слушал в Киеве риторику и поэтику – может быть, и у самого Феофана Прокоповича. И вот в старообрядческой литературе, с ее темами конца света, наступления царства антихриста (тяжелые темы), появляются силлабические стихи.
Вот, например, изящное окончание «Рифм воспоминательных», посвященных памяти как раз старшего из братьев Денисовых, Андрея Денисова:
Очевидно, что к концу петровской эпохи силлабическая поэзия уже не выглядела тем, чем она была на самом деле: плодом латинского влияния на Русскую Церковь и русскую культуру, – а выглядела остатком доброй московской допетровской старины. Иначе бы старообрядцы ее не приняли.
Во всяком случае, силлабическая поэзия воцарилась всюду, ее приняли все слои русского общества.
А ее нежизненность, абсурдность и предопределили, наверное, ту легкость, с которой российское дворянство сразу же и попало в рабство к чуждому языку – французскому, к духу его и формам. От силлабических виршей немудрено было и на край света сбежать, не то что в Париж.
Поэт, произведениями которого открывается любая антология русской поэзии, – князь Антиох Кантемир.
Константин Сергеевич Аксаков, чьи мнения всегда заслуживают внимания и уважения, отозвался о Кантемире достаточно резко: «Кантемир был острый человек – и больше ничего», – то есть фактически отказал ему в звании поэта. Но мы понимаем, что Константин Аксаков не был знаком с князем Антиохом Дмитриевичем лично (более ста лет их разделяют), и его отзыв об остроте Кантемира – это признание остроты кантемировских сатир.
Как стихотворец Кантемир целиком принадлежит переходной эпохе. В чем же его отличие от Симеона Полоцкого? Та же силлабика, то же просвещенство. Разве что антиклерикализм прибавился.