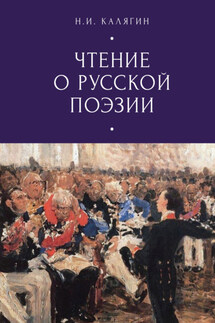Чтения о русской поэзии - страница 17
Но гением Тредиаковский не был. Предмет, на котором он споткнулся, это тот именно предмет, о который всегда претыкаются обыкновенные люди. Этот предмет – мода.
В моде был одиннадцатисложный стих, и, естественно, Василий Кириллович рассчитал свою систему под одиннадцатисложник. И вышло, что, делая ударение на последнем слоге перед цезурой (на седьмом), правильного чередования стоп можно добиться, только применяя хорей. И, стало быть, русское стихосложение должно быть обязательно двухстопным и почти исключительно хореическим.
Двигаясь в обратном направлении, получим: русское стихосложение должно быть хореическим для того, чтобы получался одиннадцатисложник. А для чего обязательно одиннадцатисложник? Такие вопросы человеку обыкновенному в голову не приходят.
По сути дела, Тредиаковский, как некий трудолюбивый крот, прорыл совершенно непроницаемую плотину – первым, от начала и до конца – и почил на лаврах, оставив вполне бессмысленную перегородку, которую богатырь Ломоносов вышиб шутя, одним ударом ноги.
И поэзия хлынула.
«Письмо о правилах российского стихотворства», написанное Ломоносовым в том же тридцать девятом году, что и ода на взятие Хотина, воспринимается сегодня как бескровная, полная, окончательная победа молодого гения над педантом.
Ломоносов беспощаден к польскому, киево-могилянскому наследству; силлабика осточертела ему еще в академии, и он, указав на нищету польской версификации, которая, в силу коренных особенностей языка, может опираться на женскую только рифму, спрашивает: а зачем нам-то «самовольно нищету терпеть и только одними женскими побрякивать, а мужских бодрость и силу, тригласных устремление и высоту оставить»?
В противовес хорею Ломоносов выдвигает ямб. И в увлечении приписывает этой стопе – самой по себе – благородство, высокость, величие; за хореем же навеки закрепляются нежность, сладость – хорей признается годным только для элегии.
В 1743 году происходит любопытное состязание поэтов: Ломоносов, Тредиаковский и Сумароков издают отдельной книжечкой свои переводы 143-го псалма, без подписей, – читателю предоставлялась возможность, не зная имени мастера, оценить само мастерство.
В предисловии Тредиаковский пишет, ставя последнюю точку в споре: «Никоторая из стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности, но что все сие зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в свое сочинение».
Трудолюбивый крот возвратился ко входу, пробитому счастливым соперником, отделал его, украсил, прибрал мусор – «сдал под ключ».
Значение Ломоносова огромно в истории нашей литературы. Его итоговая филологическая работа «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», содержащая теорию трех стилей, и является ответом на давний, до сих пор многих мучащий вопрос: кто же все-таки создал русский литературный язык – Карамзин с Жуковским или Пушкин? Создал его, конечно же, Ломоносов. Мы помним, каково было состояние литературного языка в конце петровской эпохи, – именно Ломоносов расчистил эти конюшни. Остальные уже занимались благоустройством.
Но сегодня мы с вами говорим о поэзии.
В чем же тут исключительная заслуга Ломоносова?
Аксаков, опять Константин Аксаков, пишет: «Немного таких стихов, в которых каждое слово требует внимания и подает раздельно свой голос». Такое слово «не только извне, по смыслу своему становится в стих, но и как слово прекрасно в нем является».