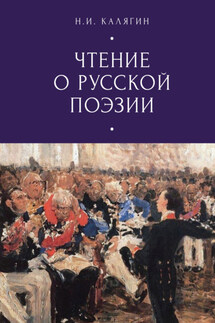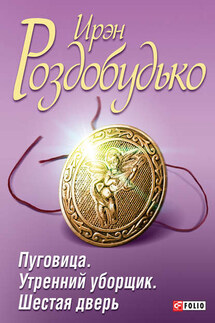Чтения о русской поэзии - страница 30
тут прямо видишь подмигиванье автора и встречный благодарный оскал читателя, они друг друга понимают – речь идет о ночах брачных:
Мы прочли полстраницы, в «Душеньке» их около восьмидесяти. Но повествование так и тащится страница за страницей – монотонно, вяло, утомительно. Невольно вспомнишь отзыв Катенина о «Душеньке»: «Она хороша была в свое время, но останется ли такова на все времена? Краски ни греческие, ни римские, шутки часто подлые, а стихи весьма нечистые» – и отметишь про себя, что Катенин, как обычно, прав.
Мы понимаем умом, что когда-то подобный интерес к бытовым деталям, некоторый первобытный психологизм, попытка привязать душевные состояния, душевные движения героини к реалиям быта – все это было когда-то ново и сенсационно. Но сегодня мы имеем несравненно более совершенные образцы бытовой психологической прозы.
Также и сердца зоилов давно перестали ныть от зависти к Хераскову, хотя племя зоилов не перевелось. Русского Гомера забыли на удивление быстро. Уже Карамзин, щеголяя своей всему свету известной объективностью, хвалил иногда следующие стихи Хераскова:
и этим вызывал почтительное недоумение у своих слушателей: какой святой человек Карамзин! У самого Хераскова отыскал четыре приемлемых стиха, сумел похвалить даже Хераскова…
Вяземский в 1821 году отзывается о Хераскове совсем уже просто: «Он не худой стихотворец, а хуже».
Сказать несколько слов в защиту Хераскова, наверное, нужно. Начнем издалека, с небольшой цитаты из книги Б. Зайцева о Жуковском: «…лирическая наша поэзия, России XIX века, родилась близ Белëва из легких строф молодого Жуковского. Новый, прекрасный звук в лирике русской явился с Жуковским – Карамзин не был поэтом, Дмитриев недостаточно значителен. Звук этот – воздыхание, нежное томление, элегия и меланхолия».
Воздыхание, нежное томление, элегия воцарились в русской поэзии еще со времен Тредиаковского и Сумарокова; меланхолией действительно заразили ее сентименталисты, Карамзин и Дмитриев, но впервые в русской поэзии этот «новый, прекрасный звук» является именно у Хераскова:
Утрата любви, «смерть, когда любовь теряем», страшат поэта больше, чем «другая смерть», физическая; утешения дружбы едва-едва смягчают горечь этой утраты:
Вообще же, при сравнении Хераскова с Карамзиным и Жуковским обнаруживаешь немало общего. Сочетание личной мягкости, доброжелательности, терпимости с верностью строгим моральным принципам отличало каждого из них. Причем строгость у наших поэтов начиналась и заканчивалась на себе, а отношение к другим, особенно к младшим, граничило нередко с попустительством.