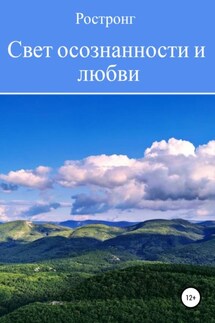Чтобы потомки знали - страница 4
– Рыба есть? – и получила в ответ:
– Рыба нету, щука есть!
Судя по всему, в Мужах, как и в Ларьяке, аборигены щуку в пищу не употребляли, она шла только на юколу, на корм собакам. Между прочим, уже в 60-е годы этого не было, щуку они ели за милую душу.
С получением реабилитации, к отцу вернулась его обычная жизнерадостность и энергия. Мы вселились в подготовленную для нас квартиру: две смежные комнаты в трехкомнатном деревянном доме с общей кухней. В третьей комнате жила женщина с ребенком лет пяти.
Родители ходили на работу, а я был предоставлен сам себе. Часов в 12 дня устраивал себе «перекус» (чаще всего хороший кусок малосольной осетрины), а обедали уже после 16 часов, когда родители приходили с работы. В Мужах я впервые в жизни попал в кино – его показывали в здании церкви (бывшей). Это был фильм (звуковой!) «Чапаев». Для меня это было потрясение, но второй фильм, увиденный в Мужах, «Поэт и царь», показался мне неинтересным и скучным. Он не произвел на меня ни малейшего впечатления.
Когда наступила зима, я пристрастился к лыжам. Крутые, хотя и не очень длинные спуски к реке были отличными горками для лыж и для санок, и на них всегда было много детворы. В первую зиму меня обули в чижи и кисы – традиционную обувь националов. В селе была большая диаспора зырян (так называли людей народности коми), составлявших большую часть населения села. Женщины этой народности были большими умелицами шить одежды националов из меха оленей и диких зверей. Вместо ниток они использовали специально выработанные жилы, которые выдерживали любую сырость и не гнили.
На льду Оби, занесенном снегом, подростки устраивали ловушки (опять же из жил) на снегирей, но не тех снегирей – серых с красной грудкой, которые хорошо известны, а на совершенно белых и более крупных (размером с голубя). Добыть таких птиц считалось большой удачей – они были деликатесной пищей.
В начальный период жизни в Мужах у родителей начали складываться похожие на дружбу отношения с семьей Новицких: муж, жена и чья-то мать. У них было трое детей: дочь Ариадна – моя ровесница, сын Валерий – на год старше и еще один сын, совсем маленький – года три. У меня со сверстниками отношения не сложились из-за Вальки: он уже учился в первом классе, был заносчив и драчлив. Не нажил я друзей и среди «аборигенов». В светлое время суток я играл в общие игры «толпы», а когда темнело – играл дома со своим любимым пароходом (модель одного из реально ходивших на линии Омск – Салехард судов, размером около полуметра, сделанная местным умельцем). Пределом моих мечтаний был заводной автомобиль, такой, какой я видел в магазине в Москве. Моей мечте не суждено было сбыться.
Весной 1936 года я впервые узнал, что такое «белые ночи». Было это, я думаю, в середине мая. На площади около школы была спортивная площадка, где взрослые парни играли в волейбол. Игра настолько захватила меня, что я перестал замечать время. На улице светло, как днем. Но что-то подсказало мне, что времени прошло немало и пора домой. Двери дома на ночь не закрывались, и я без помех вошел в квартиру. Родители уже легли спать, чему я был немало удивлен. За мой «загул» мне попало, как богатому, но отец все-таки осознал, что виной всему была белая ночь. Но ужина я все-таки лишился.
Как и в Ларьяке, отец частенько исчезал на десять – пятнадцать дней в каком-нибудь из лесхозов на геодезических съемках, знакомился там с ненцами и остяками, жил в чумах, приезжал грязный и, как правило, завшивевший. Мать приводила его в «цивилизованный облик», а иногда его новые знакомые приезжали к нам (всегда с подарками – стерлядками, олениной или с осетриной) и даже порой ночевали. Мать называла отца как и положено «Вацэк», над чем аборигены ухохатывались. Выяснилось, что на их языке вацик – это рукавичка. Удивлялись, почему жена так непочтительно называет хорошего человека. Они-то его называли Василием Ивановичем (к слову, иногда и меня, в том числе на заводе в Чудово, работяги называли часто Виктор Васильевич).
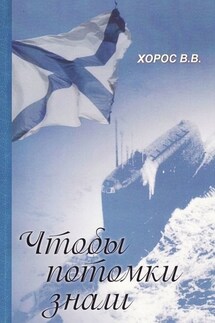

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)