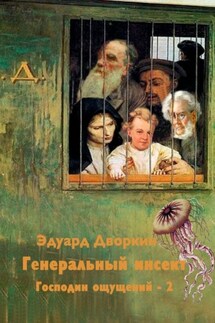Чужие причуды – 3. Свободный роман - страница 7
– Солянку, шашлыки? – медленно Коренев возвращался к жизни.
– Сультену, салтеньяс, тукуман, супы чайро и лакуас, – справилась Александра Станиславовна с записями. – Еще лечин-аль- хорно с соусом льяхуа.
– Ну, а предметы личной гигиены? – с чего-то гость заинтересовался.
Уже он знал, что покойный ими не пользовался.
– Ему грозились нанести бактерии на зубную щетку, пропитать грибком мочалку, насытить плесенью полотенце и вымазать вирусом бритву.
Так выходило, дельный человек мог не думать вовсе о красе ногтей: об этом именно в ванной комнате думала Анна Аркадьевна, обследуя обделанный в сафьян дорожных несессер Каренина с вышитой на нем дарственной надписью: от инопланетян.
Она думала о Каренине и не думала о Шабельском, но выходило так, что именно она думает о Шабельском и не думает о Каренине.
Инопланетяне мыслят несессерами, осознанная необходимость?!
Инопланетяне – египтяне: Пушкин смеялся.
То, о чем думали они вчера, сегодня становилось ложью.
Своими предметами (мыслимыми и немыслимыми) запросто они могли извратить мысль (не только рассеять в пространстве, но и заменить составляющую!) и этой возможностью широко пользовались.
Рассеянная в пространстве мысль в себе заключала предмет, и этим предметом был велосипед.
– Давайте все же называть велосипед велосипедом! – в устричной зале договаривались стрекулисты.
Велосипед – сцепление ошибок, заблуждений, грехов и падений.
Глава четвертая. Настойчивые часы
Неясная мысль уносила боливийского генерала бог знает куда.
«Пушкин – триедин; Пушкин-человек, Пушкин-поэт. Пушкин-зверь. Пушкин-зверь счастлив: сукин-сын!»
Он прибегал иногда к Ивану Матвеевичу вместо Пушкина-человека: визжал, прыгал, лизал Муравьеву руки.
Генерал нюхал пальцы: в самом деле или на словах?!
Пушкин исчезал, но слово оставалось.
Пушкинское, оно порождало другие слова, которые распространяясь, собою подменяли вещи; слова имели вкус, цвет, запах, протяженность и многие неотличимы были от предметов.
Особо озвученные и профессионально расставленные слова-заменители призваны были придать бо́льшую убедительность холодному третьему абонементу.
В этом третьем абонементе, где-то размашистом и ретроградном, местами даже фальшивом и населенном призраками, были обозначены плачущие инопланетяне, галлюциногенный сыр, грохот пушек, теннисное кладбище и главное – Сад мучений.
Во многом третий абонемент противоречил второму и первому – этому именно улыбался Пушкин.
– В голове велосипед, а на дороге мысль! – он смеялся.
У него были самые длинные ногти и, по необходимости, самый большой в столице несессер.
Когда, царапая руль, поэт садился на велосипед, мысль мчалась по дороге, вздымая пыль.
«Толстой не любил Шекспира, – мысль оформлялась. – Ему Чертков пересказал, и Лев Николаевич не принял. Когда Толстой уснул, Чертков влил яд ему в ухо. Чертков не любил Толстого!»
Похожий на тень Бога-отца Толстой задействован был во втором абонементе – об этом поздно было думать, но мысль гения пробивала слой времени.
Анна читала Шекспира – во многом его страницы совпадали с пушкинскими, но были различия: сапоги! Пушкина они делали выше, Шекспира принижали.
Едва ли не насильственно Пушкин вкладывал мысль куда было можно и куда нельзя – тяжеловесную и обязательную; шекспирова мысль возникала сама и, воздушная, танцевала на просторе ряда.
Зрителям было тесно: избыточные из первого и второго вытеснялись в недостаточный третий абонемент.